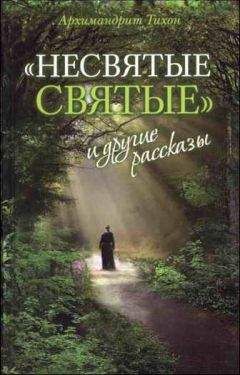А какие плоды своего духовничества могут увидеть современные старцы, которые человеку, едва с помощью Божией отставшему от тяжких грехов, предлагают изучать высокое учение Исаака Сирина, ссылаясь на то, что этот человек якобы имеет образование? И вот, на какой-нибудь бирже, вместе с грязными бумагами у него лежит и книга аввы Исаака. А они ему дают ещё и чётки, чтобы он занимался умной молитвой! К сожалению, эти старцы не чувствуют, что пытаясь этим вытащить такого человека из одной пропасти, они ввергают его в другую. Они вешают ему на шею мельничный жернов, чтобы он утонул окончательно. В отличие от них, у старца Тихона была величайшая из добродетелей – рассудительность.
«Я не стану одинаковый груз навьючивать и на коня, и на ослика, – говорил он, – ведь ясно, что ослик под ним упадёт».
Умное делание он также не рекламировал. Для нас, мирян, у него напоказ выставлялись лишь назидательные и утешительные слова Златоуста. Отец Тихон был настоящим старцем: светил одному, а просвещал многих.
Когда мы увидели, что старца мало волнуют наши бесплодные и безуспешные порывы, полные тщеславия и пустых фантазий, то мы спросили его об умерщвлении плоти, что было для нас тогда наиболее насущным вопросом. Было видно, что старец обрадовался, что мы спросили его о чём-то действительно важном. Он начал говорить об этом так живо, словно он сам был восемнадцатилетним юношей и боролся со своей неумолимой плотью.
– Когда плоть цветёт от обильной пищи и телесного покоя, то она уже не просто требует должного, но хочет пожрать всего человека, при этом оставаясь ненасытной. Усмири свою плоть трудами и постами, и её уже не потянет к женщине, а ты станешь наследником прекрасного рая. (При этих словах старца нам, полным и изнеженным городской пищей, стало стыдно. Мы не знали, куда нам спрятать наши белые розовощёкие лица.) Недавно ко мне в келью пришёл один монах. «Отче, меня тянет к женщинам». – «А чем ты питаешься у себя в келье?» – «Только хлебом». – «Принеси-ка его сюда». Спустя три дня монах пришёл снова. «Ну что, чего тебе теперь хочется: женщин или хлеба?» – «Хлебушка, отче». – «Вот, возьми свой хлеб и научись самостоятельно смирять свою плоть, чтобы её не тянуло на блуд».
Многое сказал нам тогда старец. В моей памяти мало что сохранилось, но то, что удержало сердце, стало для меня защитой от бесовских козней.
Спустя какое-то время он попросил священника, нашего проводника, сварить для нас кофе. Хлеба у него, кажется, не было вовсе. Несколько ломтей он разложил на солнце, чтобы сделать из них сухари, но и те по большей части были объедены муравьями. Я сказал ему:
– Муравьи съедят весь Ваш хлеб.
Он ответил:
– Ничего, что-то ведь и мне останется. Они едят его, пока он не высох, а когда солнце высушит его, то они уйдут.
Между тем наш священник собрался вымыть «бокалы богемского хрусталя»: несколько консервных банок из-под сгущёнки, в которых была кофейная гуща, оставшаяся от предыдущих гостей.
– Батюшка, оставь ты эти мирские штучки. Наливай кофе так, пусть люди попьют.
Я был поражён тем, насколько глубоко его испытующий взгляд проник в моё сердце. Действительно, посуда старца показалась мне отвратительной. Я думал было над ним подшутить и как бы случайно пролить кофе на стол, но как мне было спастись от его взгляда? Я выпил кофе, и эта аскетичная простота стала для меня уроком на всю жизнь. «Не будь дураком, – сказал я себе, – тебе никогда не стать пустынником. Киновия, и та будет для тебя слишком трудной».
Один из нас, подстрекаемый остальными, вежливо спросил, можно ли его сфотографировать.
– Оставь-ка, сынок, эту коробочку, и послушай лучше, что говорит Златоуст. В этих словах нет ничего моего.
Старец жил очень бедно, как я слышал от его ученика. Он кипятил воду и два-три раза опускал в неё высохший скелет селёдки: так он готовил себе «уху» по большим праздникам. Его деревянная кровать была с наклоном и постоянно переворачивалась. Стоило ему на ней заснуть, как он тут же скатывался и падал. Литургию он служил ежедневно, и зимой даже решался начинать её один, не дожидаясь прихода псаломщика.
Однажды митрополит Ленинградский Никодим при посещении старца стал перед ним на колени, чтобы взять у него благословение. Старец сказал ему: «Встаньте, ведь Вы архиерей!»
Его жизнь всегда была лишена какого-либо комфорта и удобств современной цивилизации. По вечерам он брал в руки чётки и совершал бесконечные прогулки по своему саду, произнося Иисусову молитву. До меня доносились лишь её последние слова: «помилуй мя».
Уйдя из его каливы, мы всё повторяли в уме слова, сказанные им в храме: «Смири плоть, чтобы попасть в прекрасный рай».
Распятие из его кельи находится теперь в Иверском монастыре. Оно не представляет собой какого-то выдающегося произведения искусства, но дорого тем, что перед ним молился старец Тихон. Как бы и мне хотелось иметь у себя что-нибудь из его «сервиза», чтобы пить воду с его благословением! Кто знает, у кого он теперь хранится?
За год до своей смерти старец Филофей Зервакос, которому было уже девяносто шесть лет, в одну благодатную минуту снял с себя епитрахиль и возложил её на меня. Он стал передо мной на колени, согласно древнему уставу монастыря Лонговарда, и начал свою исповедь.
– Отче, передо мной ли Вам исповедоваться?!
– Сейчас я не старец, а подсудимый.
В скиту святой Анны[234] я встретил двух таких Божиих подсудимых: старца Павла и его послушника. Оба они всегда ожидали меня, чтобы исповедаться, и всякий раз я становился свидетелем их поразительного самоукорения. Даже разбойники не стали бы так себя бичевать. Самих себя они ни во что не ставили. Приклонив колени, старец первым начинал поносить себя:
– Я неблагодарен Богу за Его дар – моего послушника. Я часто кричу на моего брата и делаю ему замечания, не из любви желая его исправить, а по страсти гнева. И по отношению к помыслам я не всегда бываю трезвенным и не успеваю их отражать. Я бываю близок и к осуждению, но когда обращаю внимание на собственные страсти, то оно, слава Богу, не одолевает меня. Я всегда избегаю слышать о скитских новостях, так как считаю их чернилами каракатицы, которые делают мутными воды моего сердца.
Он говорил и многое другое, чего моя память не сохранила от удивления перед таким зрелищем. Оно было не из обычных: высокий седобородый старец и его микроскопический послушник соревнуются, подобно лодкам в моём селе, кто превзойдёт другого в самоукорении.