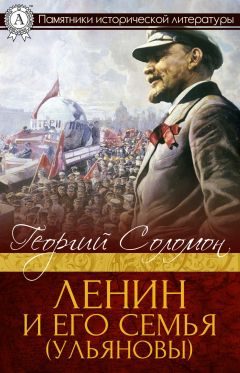Довольно странно (может быть, это профессиональное), что я не нахожу всего этого у Пушкина. Я имею в виду, что теоретически я понимаю это, но не чувствую этого так полно, нет, не чувствую. Пушкин выражается намного изысканней. По мне абстрактное искусство — музыка — более действенно, даже когда дело касается такого вопроса, как: преступник человек или нет. Вот поэтому я всегда и горд за музыку.
Музыка просвечивает человека насквозь, и в ней же — его последняя надежда и последнее прибежище. Даже полубезумный Сталин, чудовище и людоед, инстинктивно чувствовал это свойство музыки. Вот почему он боялся и ненавидел ее. Мне говорили, что он никогда не пропускал представления «Бориса» в Большом. Вопреки широко распространенному мнению он абсолютно ничего не смыслил в музыке. Теперь я наблюдаю возрождение легенды о Сталине. Я бы не удивился, если бы оказалось, что его «блистательные» труды были написаны кем-то другим. Он был как Гофмановский крошка Цахес, но в миллион раз более злобный и опасный.
Что волновало Сталина в «Борисе»? То, что невинно пролитая кровь когда-нибудь выйдет из-под спуда. Это — этический центр оперы. А значит, преступления правителя нельзя ни оправдать именем народа, ни прикрыть «законностью» власти мясника. Раньше или позже за преступления придется отвечать.
И все же царь Борис гораздо лучше «Вождя народов». И по Пушкину, и по Мусоргскому, он заботится о благоденствии людей и не совсем лишен доброты и справедливости. Взять хоть его сцену с Юродивым. И, наконец, в отличие от Сталина, он — любящий, нежный отец. А его угрызения совести? Это — не так уж мало, не правда ли? Конечно, легко чувствовать угрызения совести сразу по совершении злодеяния. Иногда эта типично русская черта вызывает у меня отвращение. Наш человек очень уж любит нагадить, а потом бить себя в грудь и размазывать сопли по физиономии. Он рыдает и плачет, но чему можно помочь слезами? Это — рабский склад ума, привычка к преда-тельству.
Однако иногда раскаивающемуся человеку можно верить, а тут перед нами действительно редкостное зрелище — раскаивающийся правитель. И все-таки народ ненавидит Бориса, потому что он тиранит их, потому что он запятнал себя убийством.
Помню, меня в свое время очень беспокоила еще и другая мысль. Всем было ясно, что надвигается война, что она рано или поздно разразится. И я думал, что все пойдет по сюжету «Бориса Годунова». Пропасть между властью и народом все ширилась, а не будем забывать, что именно отрыв от народа и привел к тому, что армия Бориса проиграла сражение Самозванцу, и в этом же была причина последующего краха государства.
Впереди было Смутное время. «Темень темная, непроглядная!» И: «Горе, горе Руси. Плачь, плачь, русский люд, голодный люд!» — плачет Юродивый. В те дни это звучало как газетные новости — не бесстыдное официозное вранье, которое шагало по первым полосам, а те новости, что читались между строками.
В моей партитуре «Бориса» есть несколько неплохих, действительно довольно удачных мест, что меня радует. В данном случае мне легче оценивать свою работу, потому что речь идет не о моей музыке. Как бы то ни было, это — музыка Мусоргского. Я ее только, так сказать, подцветил. Но, как я уже говорил, иногда она так захватывала меня, что казалась мне моей собственной, особенно когда шла изнутри, как нечто, сочиненное мной.
В этой работе для меня не было ничего механического. Так всегда со мной происходит при инструментовке. Когда она начинает звучать, не бывает «второстепенных деталей», «несущественных эпизодов» или ощущения безразличия. Взять большой монастырский колокол в сцене в келье. Мусоргский (и Римский-Корсаков) использовали гонг. Довольно элементарно, слишком просто и слишком плоско. Мне кажется, что тут очень важен именно звук колокола, надо показать атмосферу монастырской замкнутости, изолировать Пимена из остальной части мира. Своим звоном колокол напоминает, что есть сила, более могущественная, чем человек, что нельзя избежать суда истории. Я считал, что колокол должен говорить именно об этом, и изобразил его одновременной игрой семи инструментов: бас-кларнета, контрафагота, валторны, гонга, арфы, фортепьяно, и октавного контрабаса — и, кажется, звук получился более похожим на настоящий большой колокол.
У Римского-Корсакова оркестр зачастую звучит более красочно, чем у меня. Он использовал более яркие тембры и слишком измельчил мелодические линии. Я чаще сочетаю основные оркестровые группы и резче выделяю драматические «вспышки» и «всплески». Оркестр у Римского-Корсакова звучит спокойней и уравновешенней. Не думаю, что это подходит «Борису». Оркестр должен более гибко следовать за изменениями настроений персонажей. И кроме того, мне кажется, что, выделяя мелодии хоров, можно сделать яснее их содержание. У Римского-Корсакова мелодия и подголоски обычно смешаны, что, на мой взгляд, смазывает их смысл.
Слова «смысл музыки» большинству людей должны показаться странными. Особенно на Западе. Здесь, в России вопрос обычно ставится так: в конце концов, что композитор хотел сказать своей музыкальной работой? В чем он пытался разобраться? Вопросы, конечно, наивные, но, несмотря на свою наивность и прямолинейность, они определенно заслуживают ответа. Я бы еще добавил к ним, например такие: может ли музыка бороться со злом? может ли она заставить человека остановиться и задуматься? может ли она взывать и привлекать внимание человека к тем мерзостям, которые стали для него обыденными, к тому, к чему обычно он не проявляет интереса?
Все эти вопросы разбудил во мне Мусоргский. А после него я должен назвать имя малоизвестного (несмотря на все почтение, проявляемое к нему) Александра Даргомыжского, указать на его сатирические песни «Червяк» и «Титулярный советник» и его драматического «Старого капрала». Лично я считаю «Каменного гостя» Даргомыжского лучшим музыкальным воплощением легенды о Дон Жуане. Но у Даргомыжского не было размаха Мусоргского. Оба они отдали музыке себя и свои жизни без остатка, и именно поэтому они мне дороже очень многих блестящих композиторов.
Меня всю жизнь укоряли в пессимизме, нигилизме и других общественно опасных качествах. Как-то мне попалось замечательное письмо Некрасова — его ответ на упреки в чрезмерной желчности. Я не помню точных слов, но смысл был в том, что ему говорят, что отношение к действительности должно быть «здоровым». (Вот — еще одна возможность упомянуть, что эстетская терминология в России веками не меняется.) Некрасов блестяще ответил на это требование, а именно: что здоровое отношение может быть только к здоровой действительности и что он встал бы на колени перед русским, который бы, наконец, лопнул от злости, тем более, что для этого в России хватает поводов. По-моему, хорошо сказано. Некрасов заканчивает: «И когда мы разозлимся изо всех сил, тогда мы сможем любить лучше, то есть сильнее — и любить не самих себя, а нашу Родину». Я подписался бы под этими словами. «Вдруг стало видимо далеко во все концы света», — как сказал Гоголь в «Страшной мести».