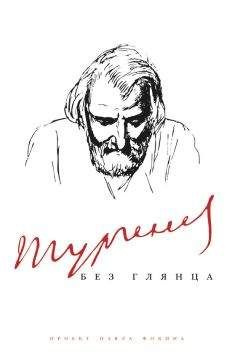– У этих людей ничего не было за душою. Они не только других обманывали, но и самих себя, и главное, продолжали настойчиво себя обманывать и после того, как все уже раскрылось с полной очевидностью. Единственный человек, быть может, у которого душа не совсем была мертва, – это была Вырубова. Да и вообще, среди них распутницы были гораздо человечнее. Но общая картина – страшная.
– Ну, а теперь разве лучше? – сказал я. Блок задумался, затем, приподнявшись на локте и как бы в чем-то извиняясь, сказал:
– Я думаю все-таки, что лучше.
– Ну, вольнодумство и любомудрие как встарь, так и поныне не признаются гражданскими добродетелями, – сказал я, имея в виду, между прочим, и потерпевший крушение план наш об учреждении свободной Философской Академии.
Разговор перешел на отдельных участников нашего кружка и, в связи с теми или иными лицами, на занимающие их планы, на их чаяния и разочарования. Блок при этом проявлял исключительную субъективность и говорил не столько о людях, сколько о непосредственном чувстве, которое они и их проявления в нем вызывали.
Беседа наша затянулась часов до трех, и мы прерывали ее несколько раз только для того, чтобы побороть то и дело снова надвигавшуюся опасность – клопов. А. А. лежал ближе к стенке и самым педантичным образом уничтожал их, сползавших откуда-то сверху по свежевыбеленной стене.
Наконец, утомление взяло верх, мы пожелали друг другу покойной ночи, и А. А. скоро заснул крепким сном. Как сейчас помню эти ставшие вдруг огромными глазные впадины, слегка раскрытый рот, всю голову, запрокинутую назад с выражением бесконечной усталости и какой-то беспомощности. При отпевании в церкви лицо Блока отдаленно напоминало своим выражением тот образ, который запечатлелся у меня в ночь, когда я, переутомленный впечатлениями дня, еще долго не мог заснуть и, размышляя бог знает о чем, вглядывался в черты этого ставшего мне на минуту столь близким человека. Все как будто спали; не спал, кроме меня, один только генерал с «старорежимным лицом».
– Товарищ Блок!
Человек во всем кожаном громко назвал имя и ждал отклика, но «товарищ Блок» спал крепко и не откликался. Я указал агенту на А. А., а сам не без труда разбудил его.
– Вы товарищ Блок?
– Я.
– К следователю!
Блок поднялся и молча, протирая глаза, пошел вслед за ним.
Было около четырех ночи. Я не сомневался, что этот поздний вызов может означать только скорое освобождение, и мне хотелось дождаться возвращения А. А. за вещами. ‹…›
Блоку вернули взятую у него записную книжку, потребовали кое-каких объяснений по поводу некоторых адресов и записей, сказали, что дело его скоро решится, и отправили обратно наверх. Он сам, как и при первом допросе, ни о чем не спрашивал.
‹…›
Проснулись мы довольно поздно. В камере жизнь уже шла своим обычным порядком, уже начали готовиться к очередной отправке на Шпалерную, когда снова появился особый агент и, подойдя к Блоку, сказал:
– Вы – товарищ Блок? Собирайте вещи… На освобождение!
Затем он с таким же сообщением направился к «генералу». Блок быстро оделся, передал оставшийся еще у него кусок хлеба, крепко пожал руку моряку Щ., матросу Д., рабочему П. и попросил передать привет не оказавшемуся по близости «искреннейшему почитателю». Мы расцеловались на прощание.
– А ведь мы с вами провели ночь совсем как Шатов с Кирилловым, – сказал он.
Он ушел.
Так кончилось кратковременное заключение того, кто называл себя сам в третьем лице – «торжеством свободы».
Всеволод Александрович Рождественский:
Весною 1921 года всех удивила весть о предстоящем выступлении А. А. Блока на литературном вечере, целиком посвященном его творчеству. Афиши известили город о том, что вечер этот состоится в Большом драматическом театре и что со вступительным словом выступит К. И. Чуковский. Билеты оказались разобранными задолго до назначенного дня. Театр был переполнен. Послушать Блока пришли люди различных литературных поколений, все его давние и новые друзья. ‹…›
Антракт, предшествующий выступлению самого Блока, томительно затянулся. Чтобы несколько отвлечь Александра Александровича от внезапно овладевшей им мрачной задумчивости, друзья привели к нему известного в городе фотографа-портретиста М. С. Наппельбаума. Он должен был сделать снимок. Блок протестовал, но слабо и нерешительно.
– Может быть, это и в самом деле нужно, – недоуменно говорил он окружающим. – Но только не мне. Я не люблю своего лица. Я хотел бы видеть его иным.
Портрет все же был сделан и скоро стал широким достоянием всех друзей блоковской музы. С него глядят прямо на зрителя светлые глаза, чуть подернутые туманом усталости и грусти. Только где-то там, в глубине светится ясная точка пытливого ума. Живое, но уже отгорающее лицо!
Таким Блок и вышел на сцену. Читал он слабым, тускловатым голосом и, казалось, без всякого воодушевления. Произносимые им слова падали мерно и тяжело. В зале стояла напряженная тишина. Ее не нарушали и аплодисменты. Они были не нужны. Каждое тихое слово Блока отчетливо, веско доходило до самых дальних рядов.
Блок остановился на мгновение, как бы что-то припоминая. И в ту минуту, слышно для всего зала, долетел до него с галерки чей-то юный, свежий голос:
– Александр Александрович, что-нибудь для нас!..
И хором поддержали его другие юные голоса.
Блок поднял лицо, впервые за весь вечер озарившееся улыбкой. Он сделал несколько шагов к рампе и теперь стоял на ярком свету. Он выпрямился, развернул плечи и словно стал выше. Теперь это был уже совсем другой человек. Голос его поднялся, и что-то упорное, даже властное зазвенело в его глуховатом тембре. Он читал «Скифы». ‹…›
Зал театра гремел в рукоплесканиях. Блок стоял неподвижно, почти сурово, и вся его поза выражала твердую решимость.
Рукоплескания все гремели. Зал поднялся, как один человек. Блок тихо наклонил голову и медленно ушел за кулисы. На вызовы он не появлялся.
Моисей Соломонович Наппельбаум (1869–1958), фотограф:
Зал Большого драматического театра был полон. Блок читал много стихов. Он был элегантен, изящен, с белым цветком в петлице, но все-таки чувствовалось, что он болен… Черты исхудавшего его лица были обострены, особенно нос, а глаза казались огромными, полными страдания. Но то не были лишь физические страдания больного человека. Это было нечто большее. Я обратил внимание на блеск его глаз: в них я увидел горение поэта. Мне вдруг показалось, что он видит нечто никому не видимое, и мне захотелось запечатлеть этот сосредоточенный, устремленный внутрь себя взгляд его расширенных, блестящих зрачков. Привлекла меня и рука Блока, узкая в запястье, тонкие длинные пальцы художника. Вместе с тем и в руках его ощущалась болезненность. Во время съемки за кулисы пришли молодые поэты. Они молча следили за фотографированием. А. Блок, сидя перед аппаратом, освещенный яркой лампой, безмолвно улыбался им навстречу.