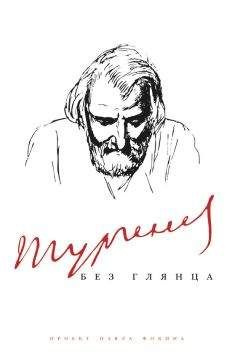После съемки молодежь окружила поэта, просила выслушать их стихи. Он сказал: «Очень хорошо, только принесите мне написанные, я на слух не умею» – и с улыбкой показал на ухо.
Самуил Миронович Алянский:
Московские вечера Блока были назначены на первые числа мая, и, хотя Александр Александрович чувствовал себя еще нездоровым, он готовился к поездке.
1 мая 1921 года Блок выехал в Москву. Там ему предстояло выступить с чтением стихов в Политехническом музее, в Союзе писателей, в Доме печати, в Итальянском обществе Данте Алигьери и еще где-то, не помню. Вместе с Блоком в Москву был приглашен Корней Иванович Чуковский, который должен был выступать на вечерах с докладом о творчестве поэта. Я тоже поехал в Москву по просьбе Александра Александровича и его близких, на случай, если ему понадобится чем-нибудь помочь. Мать и жену беспокоило нездоровье Блока. ‹…›
В дороге Александр Александрович жаловался на боли в ноге. ‹…›
3 мая состоялся первый вечер Блока в Москве, в Политехническом музее, а 5 мая – там же второй. Я был на этих вечерах и видел, как Блок нервничал и волновался. Несмотря на громадный успех, сопровождавший оба вечера, поэт не чувствовал ни радости, ни удовлетворения, он жаловался на недомогание и крайнюю усталость.
Когда Блок выступал в Доме печати, а потом в Итальянском обществе, я, чем-то занятый, на эти выступления не попал. А о скандале, который разыгрался в Доме печати, узнал от самого Александра Александровича на следующий день, когда мы встретились с ним на Новинском бульваре. Блок пришел туда, как мы условились. Он плохо выглядел и опять жаловался на усталость.
Блок рассказал, что из Политехнического музея его на машине привезли в Дом печати. Там он был тепло встречен, прочитал несколько стихотворений и собирался уже уходить в Итальянское общество, где его ждало еще одно, третье в этот вечер, выступление, как вдруг кто-то из публики крикнул, что прочитанные им стихи мертвы. Поднялся шум. Крикнувшему эти слова предложили выйти на эстраду. Тот вышел и пытался повторить брошенные слова или объяснить их, но кругом было так шумно, что невозможно было ничего разобрать. Друзья Блока, опасаясь, что он может попасть в свалку, окружили его плотным кольцом, провели к выходу и всей толпой проводили в Итальянское общество.
Казалось удивительным, что Блок рассказывал об этом скандале с полным равнодушием. В его рассказе не было даже намека на недовольство или раздражение, будто скандал этот не имел к нему никакого отношения. Больше того – когда я, возмущенный безобразной выходкой, сказал что-то нелестное о выступившем, Александр Александрович взял его под защиту: он стал уверять меня, что человек этот прав.
– Я действительно стал мертвецом, я совсем перестал слышать.
Мария Александровна Рыбникова:
Насилуя себя, больной, жестко-мрачный, вышел он на эстраду аудитории Политехнического музея. Читал он в тот вечер много, но как-то безразлично, не выбирая стихов: ему, видимо, было все равно. Слали записки, просили еще и еще. Он снова выходил, останавливался. Поднимал правую руку, проводил слабо концами пальцев по лбу, вынимал записную книжку, заглядывал и снова читал. И было так ясно: больной, безмерно усталый, лицо без улыбки, страдальческая маска. И единственное, что он прочел тогда, жутко заполонив дыхание ему внимавших, это и было первое стихотворение Цикла «Пляски смерти»… Впечатление мое, помню, не было эстетического порядка, – это было нечто иное, но сильнейшее в незабываемое. Было ясно и внятно: он – про себя!
Самуил Миронович Алянский:
С каждым днем пребывания Александра Александровича в Москве самочувствие его ухудшалось: он все чаще жаловался на слабость и усталость.
Однажды я откуда-то возвращался вместе с Блоком. Мы шли по от Арбатских ворот по Арбату – совсем недалеко. Когда мы поравнялись с домом, в котором он остановился в этот приезд, он сказал, что едва дошел – так устал, что не знает, хватит ли ему сил дойти до лестницы и подняться до квартиры. Я проводил его и ушел в надежде, что за ночь он отдохнет и усталость пройдет. Но когда утром на следующий день я зашел за ним и спросил его о самочувствии, он сказал, что, должно быть, серьезно болен: усталость и боли в ногах не проходят и не дают покоя.
Иван Никанорович Розанов (1874–1959), литературовед, фольклорист, библиофил, исследователь русской поэзии XVIII–XIX вв.:
Меня поразила мрачность его репертуара. 5 мая, несмотря на усиленные просьбы слушателей, он категорически отказался прочесть «Двенадцать». Запомнился ряд концовок прочитанных им стихотворений:
Доколе матери тужить –
Доколе коршуну кружить.
О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней!
Или:
Что тужить? Ведь решена задача:
Все умрем!
Произнесение им этих строк главным образом осталось в памяти.
В дневнике у меня записано, что в публике были Пастернак и Маяковский.
Александр Александрович Блок. Из письма Н. А. Нолле-Коган. Петроград, 8 января 1921 г.:
Я бесконечно отяжелел от всей жизни, и Вы помните это и не думайте о 99/100 меня, о всем слабом, грешном и ничтожном, что во мне. По во мне есть, правда, 1/100 того, что надо было передать кому-то, вот эту лучшую мою часть я бы мог выразить в пожелании Вашему ребенку, человеку близкого будущего. Это пожелание такое: пусть, если только это будет возможно, он будет человек мира, а не войны, пусть он будет спокойно и медленно созидать истребленное семью годами ужаса. Если же это невозможно, если кровь все еще будет в нем кипеть, и бунтовать, и разрушать, как во всех нас, грешных, – то пусть уж его терзает всегда и неотступно прежде всего совесть, пусть она хоть обезвреживает его ядовитые, страшные порывы, которыми богата современность наша и, может быть, будет богато и ближайшее будущее.
Поймите, как я говорю это, говорю с болью и с отчаянием в душе; но пойти в церковь все еще не могу, хотя она зовет. Жалейте и лелейте своего будущего ребенка; если он будет хороший, какой он будет мученик, – он будет расплачиваться за все, что мы наделали, за каждую минуту наших дней.
Любовь Дмитриевна Блок:
Когда Саша вернулся из Москвы, я встречала его на вокзале с лошадью Белицкого. Увидела его в окно вагона, улыбающегося. Ноги болели, но не очень; мы шли под руку, он не давал мне нести чемодан, пока не взял носильщик. День был хороший, мы ехали и разговаривали.