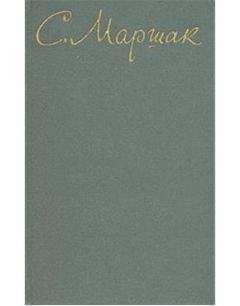Но при всем сходстве этих стихотворений («…жадно глядишь на дорогу» — «Так много жадных взоров кинуто». Гусар, облокотившийся на бархат алый, — и подбоченившийся корнет), в каждом из них так отчетливо и ярко проявилась индивидуальность их авторов, так явственно чувствуются подлинные черты времени.
С теми же стихами Александра Блока в какой-то степени перекликается и стихотворение английского поэта XIX века Томаса Гуда «Мост вздохов» — тоже о девушке-самоубийце.
Почти вполне совпадают строчка Блока: «Красивая и молодая» со строчкой Томаса Гуда:
«Young and so fair» (Молодая и такая красивая).
Такая перекличка поэтов разных времен и стран объясняется совпадением жизненных фактов, да еще и тем, что чуткая память поэта бережет — иной раз даже без участия сознания — обрывок музыкальной фразы его собрата, предшественника или современника.
Кстати, как я неоднократно наблюдал, совпадение стихотворного размера и ритма часто влечет за собою и словесное совпадение. Очевидно, ритм не запоминается нами отвлеченно, отдельно от тех слов, в которых он дошел до нас.
У Лонгфелло есть стихи, напоминающие своим размером и ритмом известное стихотворение Гейне «Лорелей».
Очевидно, недаром, не случайно строчка Гейне: «Und ruhig fliesst der Rhein» («И спокойно течет Рейн») так похожа на строчку Лонгфелло: «As the wind resembles the rain» («Как ветер напоминает дождь»).
Хоть заключительное и опорное слово у Гейне означает реку Рейн, а у Лонгфелло — дождь, но звучание их почти одинаково.
В стихотворении Лермонтова «Ветка Палестины» (1837) слышатся явные отзвуки пушкинского стихотворения «Цветок» (1828).
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя.
Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
…И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?
Не похожи ли эти мелодичные, проникнутые грустным раздумьем вопросы на такие же лирические вопросы, которыми кончаются восемь четверостиший «Ветки Палестины»?
Скажи мне, ветка Палестины,
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?..
…И пальма та жива ль поныне?
Все так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?
Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,
И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листы…
«Ветка Палестины» осталась в памяти гораздо более широкого круга читателей — и взрослых и юных, — чем небольшое и скромное стихотворение Пушкина «Цветок».
Но для меня — и, вероятно, не только для меня одного — в беглых и хрупких, как бы наскоро набросанных лирических строчках Пушкина таится больше очарования, как в почерке по сравнению со шрифтом.
Не эти ли строчки Пушкина («И вот уже мечтою странной…») нашли отдаленный и менее явный отзвук и в стихах Блока -
…Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман![42]
Поэты-современники и поэты разных веков и национальностей то и дело перекликаются между собою. Поэзия — это как бы общее большое хозяйство, в которое каждый народ и каждый поэт в отдельности вносит свой вклад, частицу своего гения. Это яснее ощущается в эпохи подъема, менее заметно — в эпохи упадка. В росписи Сикстинской Капеллы участвовало множество художников, не боявшихся, что их индивидуальность затеряется, потонет в общем дружном хоре.
Напротив, в эпоху декаданса каждый ревниво оберегает патент, взятый им на тот или иной стихотворный жанр, размер, ритм, круг тем, образов, эпитетов и метафор.
Верно и глубоко чувствовал общность поэтов своей страны и эпохи Владимир Маяковский, обращаясь к собратьям:
Сочтемся славою, —
ведь мы свои же люди, —
пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм.[43]
Чем крупнее поэт, тем больше чувствует он, что искусство — общее дело, а не какой-то отгороженный им участок. Чувствует это даже тогда, когда полемизирует, как Маяковский, с поэтами-современниками и классиками. Ведь примерно такую же полемику вели в своих стихах и Пушкин, и Лермонтов, и Байрон, и Бернс, и Гейне — и в наше время Твардовский.
Пушкин установил далекие связи с поэзией и прозой различных времен — с греческими гекзаметрами, с Овидием[44] и Горацием, с латинской прозой, с французскими поэтами, с Байроном, а потом с Шекспиром, с поэзией западных славян, с русской народной и предшествовавшей ему литературной поэзией, — всех его связей в беглом перечне не охватишь.
Без питания нет роста. Добросовестно пройденный ученический период ведет к выработке подлинного, а не поверхностного и мнимого своеобразия.
Только умственно ограниченный и наивный человек может думать, что знакомство со стихами поэтов-современников и предшественников грозит ему потерей оригинальности и самобытности. Сравнивая между собой различные Эпохи, лишний раз убеждаешься, что потеря связи с культурой ведет к банальности, к бедности мысли, чувств и поэтических средств.
У поэта, как у всякого художника, два источника питания. Один из них — жизнь, другой — само искусство. Без первого нет второго. Недаром, как мы видели, во время падения культуры стиха поэзия теряет не только стиль и многообразие своих форм и средств, но и способность видеть, слышать и чувствовать окружающую жизнь.
С другой стороны поэзия становится бескровной, формальной и книжной, если она оторвана от жизни и варится в собственном — поэтическом — соку.
Для нас уже стало прописной истиной, что Пушкин учился живой русской речи у простого народа — у нянюшки Арины Родионовны, в деревне, на дорогах и базарах — и что Лев Толстой — по его собственному признанию — учился говорить по-русски не только у крестьян, но даже у крестьянских ребят.
Не оттого ли стихи так часто похожи у нас на перевод с какого-то иностранного языка, что авторы их не прислушиваются к живой и естественной русской речи, не стараются уловить те богатые устные интонации, без которых фраза становится безжизненной, бессильной и бесцветной.
Эти интонации придают мощь и убедительность пушкинским, лермонтовским, некрасовским, тютчевским стихам, стихам Маяковского и Твардовского.