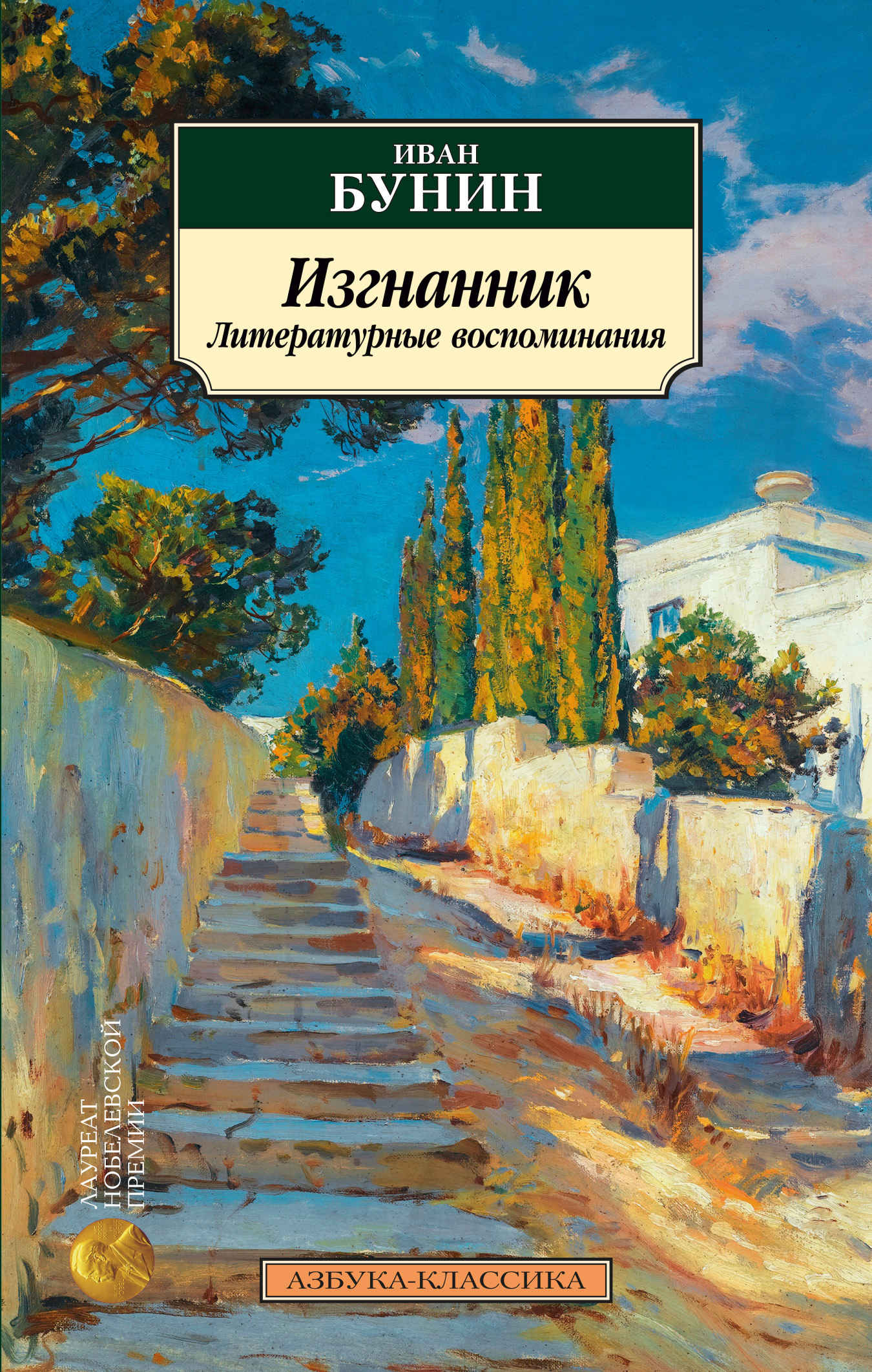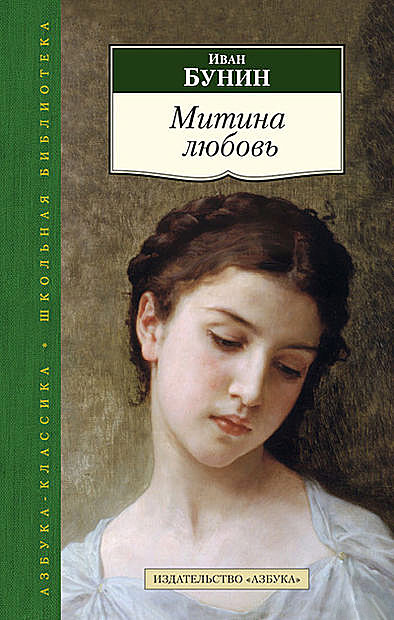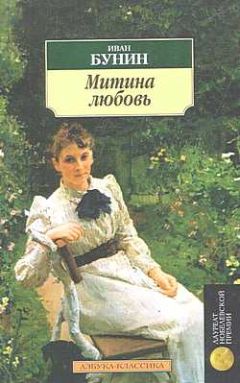другое существо, и нельзя было жалеть его.
Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить…» И вот он все-таки рассказывает по ночам этим молодым лошадям историю своей прежней жизни, своей долгой службы людям, – которые говорили про него «моя лошадь», что сначала казалось ему так же странно, как слова: «моя земля, мой воздух, моя вода», – службы, кончившейся тем, что гусар загнал его. Он «ничего и никого никогда не любил», но в нем мерину «нравилось именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил». Мерин говорит про него: «Его холодность, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я, бывало, в наши счастливые времена, – я тем буду счастливее». И гусар загнал его. «Любовница у него была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец». И когда любовница сбежала от него, он в погоне за ней загнал мерина. Но своей жизнью загнал он и себя. Когда, лет через пятнадцать, приехал он однажды в гости как раз к тому барину, который был последним хозяином Холстомера, уже был он тоже развалиной:
– Приезжий, Никита Серпуховской, был человек лет за сорок, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился, видимо, физически, и морально, и денежно…
– Он был одет в военный китель и синие штаны. Китель и штаны были такие, каких бы никто себе не сделал, кроме богача; белье тоже; часы тоже были английские. Сапоги были на каких-то чудных, в палец толщины, подошвах.
– Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в два миллиона и остался еще должен 120 тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять.
– Лет десять уже проходили, и размах кончался, и Никите становилось грустно жить…
А хозяин был молод, крепок, богат, «один из тех, которые никогда не переводятся, ездят в собольих шубах, бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, содержат самую дорогую любовницу». Хозяин хвастался Серпуховскому своим счастьем, богатством, навязывал ему взять в запас побольше дорогих сигар, ставя его тем в неловкое и оскорбительное положение; они говорили весь вечер, как будто равные, про лошадей, про женщин, – «у кого какая: цыганка, танцовщица, француженка», но им было скучно слушать друг друга – каждый хотел говорить только про себя. Поздно ночью они наконец разошлись.
– Хозяин лежал с любовницей.
– Нет, он невозможен. Напился и врет, не переставая…
– И за мной ухаживает.
– Я боюсь – будет просить денег.
Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.
– Кажется, я много врал, – подумал он. – Ну, все равно! Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая, – сказал он сам себе и захохотал…
– Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как; но сапог долго не мог стащить, – брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой, бился, бился, запыхался и устал. И так, с ногой в голенище, повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости…
Старого Холстомера, опаршивевшего от коросты, зарезали за усадьбой в лощине за кирпичным сараем, и драч снял с него его старую шкуру.
– Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали вороны и коршуны…
И ритмически, торжественно кончается эта страшная «история лошади»:
– На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волченята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленький, с головой больше туловища. Худая линявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волченят. Волченята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив колено и перегнув морду книзу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волченята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила все маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча, ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица и другому, и третьему, и всем пятерым и тогда легла против них, отдыхая.
– Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два мослака: остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти мослаки и череп и пустил их в дело.
– Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились.
– А как уже двадцать лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю была только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это тотчас же загнившее пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свезти его в Москву, и там раскопать давнишние людские кости, и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землей…
Эта «история лошади» есть, так сказать, история смерти мертвых.
Алданов в своей книге «Загадка Толстого» перечисляет количество смертей в его произведениях и недоуменно спрашивает: зачем собрал Толстой за свою долгую художественную жизнь такой огромный художественный материал на тему смерти? «Если мыслимо создать философию смерти, ее должен был создать Толстой. Но он не воспользовался для этических обобщений богатствами своей сокровищницы. Толстой не обмолвился ни словом о разорванном бомбой Курагине, ни о зарезанной мужем Позднышевой, ни о барыне, которую изъела чахотка в „Трех смертях“… Естествоиспытатель сделал свое дело. Философ прошел мимо». Читаешь – и глазам не веришь. Выходит как будто так, что Толстой должен был чуть не каждую смерть, написанную им, сопровождать этическими обобщениями, философией, а он меж тем будто бы даже никогда этого не делал. Слишком по-разному читаем мы с Алдановым «Три смерти», «Холстомера»…
Картины смертей в «Войне и мире» открываются язычески величавой картиной смерти старого графа Безухова, наивысшей разновидности «Холстомеров». Потом идет смерть «маленькой княгини». Это –