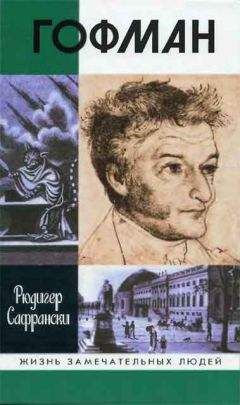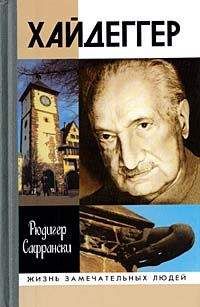Черт знает толк в яблоках. Именно этим фруктом соблазнила Ева Адама. Здесь, в Черных воротах Дрездена, она бросила под ноги Ансельму десятки яблок, и он упал. При этом Ансельм собирался в Линковых купальнях претерпеть превращение: «Я сделался бы совсем другим человеком». Может, потому он так и бежал, что хотел убежать от себя самого? Однако «другой человек», которым он собирался стать, неожиданным образом оказывается самым обыкновенным человеком: «Я мог бы, как и всякий другой гость…»
Ансельму хотелось бы завоевать сердце девушки. Для него это — целая эпопея, ради которой надо «расхрабриться», которая требует знать толк в «легком светском тоне», а это дается с трудом. Ансельм хотел бы превратиться в кого-то, кто владеет многообещающим искусством эротического обольщения. В свое время Кант дал определение этого искусства: «Истинно влюбленный смущается в присутствии своей возлюбленной, он неловок и мало привлекателен. Тот же, кто лишь изображает из себя влюбленного и обладает необходимым для этого талантом, может сыграть свою роль столь натурально, что непременно заманит в свою ловушку несчастную обманутую; именно потому, что сердце его холодно, голова остается ясной, позволяя ему в полной мере воспользоваться своим умением весьма натурально изображать из себя влюбленного». «Легкий светский тон» — не что иное, как умение натурально изображать из себя влюбленного, необходимое мужчине, пускающемуся на поиски любовных приключений. Тыловым обеспечением такого завоевательного похода служит полный кошелек, благодаря которому можно громко, чтобы все слышали, заказывать у официанта самое лучшее угощение.
Таким фантазиям предается Ансельм, растянувшись на траве под кустом бузины. Таковы вполне обычные удовольствия, которых он лишен и к которым стремится в своих мечтах. В Ансельме, предающемся этим мечтам, мы еще не находим ничего от позднейшего обитателя чудесной страны Атлантиды. Или все же находим?
В пригрезившейся стране Атлантиде царит «священное созвучие всех существ» как предустановленная гармония. Дневная греза Ансельма уже устремлена в этом направлении, однако ее движение замедляется грузом представлений о самом себе. В дневной грезе речь идет об эротическом самоутверждении, «созвучие» предполагает победу в борьбе, тогда как страна Атлантида дарует освобождение от необходимости вести борьбу — правда, в мире бестелесности.
На путь в Атлантиду Ансельма увлекает «дурманящая речь» некоего существа, которое хотя и смотрит влюбленно на юношу, однако, похоже, не имеет тела, во всяком случае, женского. Мечтателю кажется, что это говорят змейки в кустах, что они смотрят на него. А может быть, это сама природа, «раскрыв глаза», обращается к нему, нуждающемуся в утешении? «И вот зашевелилось и задвигалось все, как будто проснувшись к радостной жизни. Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт, и золотые вечерние облака, проходя, уносили с собою отголоски этого пения в далекие страны».
Вид природы отражает эротическое влечение, для которого остается недоступным поле битвы Линковых купален и которому, следовательно, нет нужды истощать себя в сложных позиционных войнах полов. Это влечение остается по-своему безотносительным: Ансельм хотел бы обнять всю природу.
Поразительной особенностью грез Ансельма, поскольку они выходят за пределы Линковых купален, оказывается проявляющееся в них самоограничение. Они отнюдь не переливаются через край. Доносящиеся из кустов хрустальные голоса, точно парящая в воздухе пара глаз, дарящие блаженство змейки — все это выдает тщательно отфильтрованную чувственность. Если сравнить эти видения с реально ощутимым соблазном, исходящим от хорошенькой Вероники, стремящейся привлечь к себе внимание Ансельма, то можно сказать, что молодой человек испытывает своего рода боязнь исполнения желаний даже в своих фантазиях.
Физическая близость страшит его. От предложения насладиться ею он бежит в царство грез. Боязнь телесной любви толкает Ансельма в объятия змейки Серпентины, которая в покоях архивариуса Линдгорста, своего отца, становится музой его поэтической отрешенности.
В мифологическом рассказе, содержащем и ее собственную генеалогию, Серпентина поясняет, при каких условиях она хотела бы стать любимой. Она не хотела бы, чтобы в ее любви повторился проступок, совершенный ее отцом, архивариусом и земным духом Саламандром, в его мифологическом прошлом. И он влюбился в змейку, мать Серпентины, дремавшую в чашечке цветка огненной лилии. Он похитил прекрасную змейку и стал упрашивать князя духов Фосфора, чтобы тот позволил ему жениться. Однако Фосфор ответил отказом, ибо и сам он в свое время обжегся, попытавшись овладеть прекрасным экземпляром мифологической флоры. Любимая им огненная лилия от его поцелуя претерпела неожиданные изменения: «Едва юноша Фосфор поцеловал ее, как она, точно пронизанная светом, вспыхнула ярким пламенем, из которого вышло незнакомое существо, взлетевшее вверх над долиной и пропавшее в бескрайних просторах, нимало не заботясь… о любимом юноше». Вот чем обернулось для несчастного юноши его желание обладать огненной лилией.
Гофман передал эту мифологическую историю и не в мифологическом ключе, например, в новелле «Синьор Формика» (1819). Там юный Антонио с помощью Сальватора, многоопытного знатока жизни и художника, пытается встретиться с возлюбленной Марианной, которую стережет ревнивый дядя. Дело завоевания, собственно, можно было считать удавшимся, но Сальватор предостерегает влюбленного от попытки пожинать плоды того, что было столь тщательно посеяно: «Непостижимое в природе женщин посрамит любое оружие мужчины. Та, что казалась нам преданной всей своей душой, открывшей нам свое самое сокровенное, обманет нас в первую очередь, и вместе со сладостным поцелуем впитываем мы пагубный яд».
«Непостижимое в природе женщин», таинственная способность которых к превращению позволяет ускользнуть от любых притязаний на обладание, преподносится здесь как предостережение от брака. Это заслуживает внимания, поскольку находится в резком противоречии с критикой брака с позиций филистеров, которую Гофман воплотил, например, в образе кота Мурра. Кот предлагает кошечке Мисмис свою лапу: «Она ответила согласием, и как только мы стали парой, я заметил, что моя любовная страсть совершенно улетучилась… что в конце концов угасла и последняя искорка любви к прекрасной и что рядом с нею меня охватывает смертельная скука».
Таким образом, удовлетворение собственнического инстинкта, коим представляется соединение двоих любящих, то оборачивается источником чрезмерного беспокойства, то влечет за собой безжизненный покой как следствие отмирания желаний. Столь часто встречающееся в произведениях Гофмана предостережение против брака заключает в себе нечто амбивалентное: зачастую невозможно понять, чего боятся его герои, пасуя перед любимыми, — то ли риска изнурительного беспокойства, то ли риска безжизненного покоя, то есть то ли страха перед жизнью, то ли страха перед смертью.