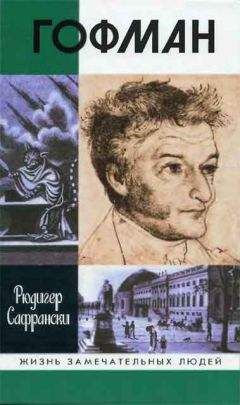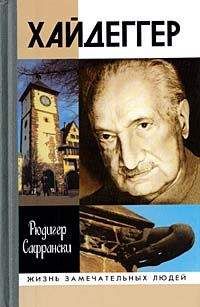Что это так, Гофман наглядно показывает через мотив кристалла, который одновременно характеризует обе эти возможности. Ансельм приговорен к заточению в стеклянной бутылке за то, что он малодушно полагает, что его любовь к Веронике означает совершенное исполнение его грез. Когда он довольствуется тем, что могут предложить ему бюргеры из предместья и их дочери, ему становится тесно, точно в стеклянной бутылке; «стеклянная тюрьма» совершенно лишает его свободы движений и воздуха для дыхания. Правда, надо обладать желанием двигаться и дышать, чтобы вообще заметить это лишение свободы. Мотив кристалла служит здесь наглядным выражением запрета на превращение, господствующего в бюргерской повседневности.
В рассказе «Фалунские рудники» (1818) возникает тот же мотив. Там Элис Фребом поддается внушению чудесного. Его тянет внутрь горы, он видит королеву горы; его манят превращения, каких никогда еще с ним не случалось. Невеста Улла не может удержать его. Прямо в день свадьбы он бежит из ее объятий. И на этот раз дело заканчивается «кристаллом». Элиса засыпало в горе, и спустя много лет его находят «кристаллизовавшегося» в растворе купороса. Мораль рассказа такова: погружение в чудесное, обрывающее все связи с реальностью, тоже ведет в «стеклянную тюрьму». Поэтому злое пророчество торговки яблоками: «Попадешь под стекло!» — из начала рассказа «Золотой горшок» следует относить не только к эпизоду со стеклянными бутылками, но и к концу рассказа. Разве Ансельма, мысленно совершенно перенесшегося в Атлантиду, постигает не та же судьба, что и Элиса Фребома? Разве Атлантида — не та же «стеклянная тюрьма», в которой оказывается запертым Ансельм, совершенно отрешенный от «прозаической» действительности? Для превращений нет более места в царстве эскапизма, отгороженного от реальности. Не бывает превращений в однородной среде, они возможны лишь там, где фиксируемые притязания реальности постоянно порождают желание избежать их.
Тяга к превращениям, столь отчетливо проступающая в произведениях Гофмана, имеет собственную социальную историю. Цивилизационный процесс Запада многообразно смоделировал аффекты людей. Он монополизировал публичную власть в сфере государственной деятельности, зато создал «умиротворенные» области общественной жизни, в которых власть хотя и не исчезает, однако приглушается, приобретает более утонченные, непрямые и правильные формы. Система общественных связей становится более сложной. Цепочки действий, в которые включен каждый человек, удлиняются и делаются более необозримыми. Становящийся более многочисленным род человеческий приучает каждого отдельного своего члена «владеть собой», соблюдая установленный порядок. Власть, скрытая за кулисами повседневности, продолжает свое дело моделирования типов поведения. «Флюид» человеческой природы прежних столетий укрепляется, колеблющиеся между крайними полюсами аффекты «цивилизуются», приглушаются до некоторого среднего состояния.
Это развитие начинается в раннее Новое время, но на рубеже XVIII и XIX веков столь стремительно ускоряется, что уже воспринимается как проблема. «Умиротворенное» и функционирующее по принципу разделения труда гражданское общество нуждается в людях, которые сформировали устойчивую и потому предсказуемую идентичность, которые могут «владеть собой» и к которым не обязательно должно применяться внешнее принуждение, поскольку они и сами могут заставлять себя. Кто сам себя держит в узде, тот нуждается во внешней безопасности. Однако она может быть обеспечена лишь при условии, что общественная жизнь протекает по образцу ролевой игры. Ролевая игра гражданского мира должна разделять в человеке внутренний и внешний мир и регулировать условия, при которых внутренний мир может переходить во внешний. Зачастую это невозможно, поскольку в противном случае упорядоченное и сложное сосуществование людей будет нарушено, а длинные цепочки действий, в которые включен отдельный человек, окажутся разорванными.
Игра на сцене гражданской жизни может быть видимостью, принимая во внимание замкнутость и бездонность внутреннего мира. Однако, как писал Кант, она является необходимой видимостью. В противном случае невозможно сосуществование. Кроме того, по мнению Канта, сохраняется надежда, что видимость внешнего в конечном счете распространится и на внутреннее, сделав человека тем, кем он должен казаться в гражданском мире. Только в этом случае действительно была бы устранена угроза прорыва наружу внутренней сущности, что и приводит к превращениям. До того момента следует делать так, «как будто».
Однако в таком случае гражданский мир должен стать миром подозрения. Известный мир хотя и установился, однако ему нельзя доверять, следует быть начеку. Пользуясь безопасностью, тем не менее испытывают страх перед хаосом, который, как полагают, может прорваться, возникнуть из общественных различий и скрытых миров собственной психики. Новое столетие старик Кант напутствовал предостережением: «…Поскольку же глупость, несущая на себе налет злобы… отчетливо просматривается на моральной физиономии рода человеческого, то из одного только утаивания немалой части мыслей, которое считает необходимым каждый умный человек, достаточно отчетливо явствует: надо, чтобы любой из людей почитал за благо быть начеку и не позволял разглядеть всего себя таким, каков он есть».
Нетрудно понять, что цивилизация, раздирающая человека на внутреннее и внешнее, закрепляющая при этом за внешним определенную роль и конституирующая внутреннее как скрытый психический мир, как мир предубеждения, — что эта цивилизация должна порождать совершенно особую тягу к превращениям. Действительно, пока социальный запрет на превращения исполняется лишь с оговоркой, что внутреннее содержит в себе и нечто такое, чего лучше «не показывать полностью», до тех пор существует нечто потустороннее по отношению к идентичности, враждебной к превращениям, что сохраняется в резерве, но в надлежащий момент может материализоваться. Культура заботится о таких моментах. В «ограниченных взрывах» сдерживаемая тяга к превращениям может сорвать социальную маску. Это происходит в поэзии, в искусстве вообще, во время праздников, в состоянии упоения.
Напряжение между запретом на превращение и тягой к превращениям нарастает еще и потому, что меняющееся пространство социальных переживаний, в котором действует запрет на превращения, одновременно создает новые стимулы к превращениям. Возникают крупные города, а вместе с ними — современный феномен анонимности. Затерявшись в массе, порой можно позволить себе выйти из своей социальной идентичности. В рассказе Гофмана «Мадемуазель де Скюдери» (1818) художественно переработан этот опыт.