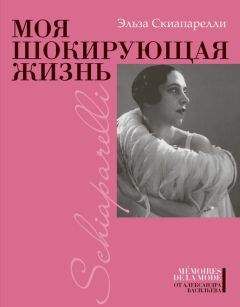Ознакомительная версия.
И тогда меня охватило другое желание – писа́ть! Это пришло как толчок, потрясший меня с головы до ног, – столь сильный, что я почувствовала его физически. Я не желала писать что попало, нет, – только стихи! Но отдельной комнаты у меня не было… тогда я придвинула стул и столик к окну в коридоре и отгородила их чудовищно некрасивой японской ширмой. Вид из окна, однако, не вдохновлял – оно выходило во двор.
Пока вся семья волновалась вокруг меня, аромат ирисовой эссенции, идущий из прачечной, вызывал во мне ощущение, что я на открытом воздухе, весной… Впрочем, все было иллюзией, даже то, о чем я в состоянии транса писала много часов кряду. Жизнь за моей ширмой и во всей квартире не имела уже ничего общего со мной – мне удавалось достигнуть полного отвлечения.
Когда мама устраивала приемы, это происходило в большом салоне, для других нужд он не использовался. Нам запрещалось туда входить, и в иные дни окна там оставались закрытыми и зашторенными, что лишало комнату воздуха и света. Иногда я проскальзывала в салон, забивалась в угол дивана, горячо желая, чтобы меня не обнаружили, и впадала в забытье. В комнате размещались персидские и китайские предметы, и слабый аромат сандала придавал моему убежищу оттенок извращенности. В дни приема шторы открывались, салон наполнялся светом. Дамы, приходившие в гости, были, по большей части, старые подруги матери по колледжу, их пути разошлись, но они продолжали общаться по привычке. Встречались также ученые и дипломаты, казавшиеся очень старыми. Разговоры велись весьма изысканные и убийственно скучные.
Длинными, спокойными ночами весной и осенью пастухи окрестных деревень, пересекая город со своими стадами, проходили по улице Национале, где мы в то время жили. Завернувшись в тяжелые черные плащи, в больших черных шляпах, с пастушьими посохами в руках, они шествовали вдоль улицы вместе со своими собаками, которые помогали им пасти стада. Блеяние овец внушало спящим за ставнями мужчинам и женщинам мысли о просторах лугов…
Спрятавшись в запретных комнатах, я порой наблюдала эту восхитительную сцену – в ней вся поэзия деревни, – все это освещала римская луна. Дрожа от холода, страшно возбужденная, я тихо возвращалась в свою постель. Стараясь не разбудить сестру, мы с ней спали в одной комнате, мысленно повторяла поэму, которую напишу завтра.
За ширму я возвращалась с огромными листами бумаги, вновь свободная, и погружалась в глубокие раздумья. Никогда с тех пор не испытывала столь огромной радости, как тогда – одержимая.
Через много лет Скиап перечитала свои поэмы… и с трудом поверила, что они написаны ею, краснела, читая их вслух, хотя это лишь часть того, что выражалось так свободно. В детстве она не отдавала себе отчета в том, что писала. Теперь-то она понимала, что горе и любовь, чувственность и мистицизм – наследие тысячелетий вторглись в сознание наивного ребенка. Но с тех пор никакая удача не приносила ей большего чувства удовлетворения, чем те стихи.
Кузен Аттилио, сын астронома, намного ее старше, стал большим другом Скиап. По профессии художественный критик, он владел небольшой коллекцией прекрасных картин, хранил их в темной комнате. Время от времени забирал оттуда одно из своих сокровищ и вешал на лучшей стене в своем доме – пусть другие картины не мешают как должно оценить ее. Он утверждал, что за один раз человек получает наслаждение лишь от одного произведения искусства. Насытив свой ум и чувства красотой картины, он возвращал ее на место и выносил другую.
Именно этому кузену доверила она свои поэмы. Он прочитал, попросил разрешения подержать несколько дней у себя и тайком передал миланскому издателю, по имени Куинтьери, не сообщив имени автора. На следующий день тот позвонил ему и сказал: «Я публикую книгу. Скажи мне имя автора!»
Тогда Скиап под предлогом визита к кому-то из родственников отправилась в Милан, и кузен Аттилио отвел ее к издателю. Ей было четырнадцать лет; сев в уголке, испуганная и взволнованная, она слушала, как Аттилио начал разговор со своим приятелем. Через некоторое время издатель, человек занятой, взглянул на часы.
– Вы полагаете, она еще долго заставит себя ждать?
– Кто? – удивился Аттилио.
– Как «кто» – автор поэм!
– Но он сидит рядом с вами.
Под удивленным взглядом издателя Скиап сделалась еще меньше и нелепее, чем обычно.
Куинтьери опубликовал поэмы, назвав их «Аретуса»[7] – именем нимфы светлого источника в Сиракузах на Сицилии. Она написала посвящение:
«Тем, кого люблю,
Тем, кто меня любит,
Тем, кто заставлял меня страдать».
Для семьи книга оказалась разорвавшейся бомбой. О ней писали газеты, отрывки из поэм публиковались повсюду в Италии и даже за границей.
Но отец посчитал это ужасным позором для семьи и отказался прочитать книжку. Созвали семейный совет и постановили: в качестве наказания и чтобы поместить отныне под постоянный надзор, – отослать автора в монастырь в немецкую Швейцарию. И отослали – сожалеть о своих грехах и охлаждать слишком буйный темперамент.
На деле эта ссылка стала для меня совершенно удивительным испытанием. Оставаясь по-прежнему до глубины души экзальтированной, я не подчинилась религиозному уставу. Несомненно, я была глубоко верующей, но по-своему, особым образом: вера моя находилась в непосредственной связи с истоками гармонии и творения, я не прибегала к посредничеству людей.
В монастыре не терпели никаких связей с внешним миром. Любое письмо, записка, даже адресованные родителям, просматривались матерью-настоятельницей. Даже ежедневные ванны проходили под наблюдением: мы должны купаться в толстой полотняной рубашке, чтобы ни в коем случае наши тела не предстали обнаженными, и имели право снять ее днем, лишь надев предварительно другую.
Первое, что она сделала, освободилась от этой ужасной туники и приняла ванну как все нормальные люди. Но через замочную скважину за ней кто-то шпионил, и в тот же день нарушительницу призвали к ответу. В приступе возмущения, не забыв натянуть длинные черные перчатки, она подготовилась, чтобы предстать перед матерью-настоятельницей. Она знала, что перед этой особой, жесткой и враждебной, надеяться было не на что. Скиап решили укротить, но она твердо настроилась на борьбу, особенно после того, как заметила на столе настоятельницы свои письма.
Девушку обвинили в недисциплинированности и бесстыдстве. Чувствуя себя чистой и честной, она впала в состояние безумного гнева. Упрямый подросток и старая монахиня сошлись лицом к лицу, как в петушином бою…
Ознакомительная версия.