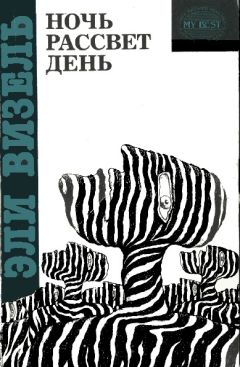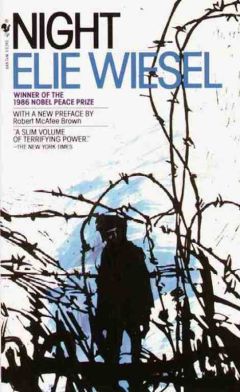— Йитгаддал вейиткаддаш шмей рабба… — Да возвеличится и освятится Его Имя… — шептал отец.
Впервые я почувствовал, что во мне закипает протест. Почему я должен освящать и возвеличивать Его Имя? Вечный, Царь Вселенной, Всемогущий и Страшный молчит, за что же мне Его благодарить?
Мы продолжали идти. Постепенно мы приблизились ко рву, откуда исходил адский жар. Оставалось еще двадцать шагов. Если я решил покончить с собой, то было самое время. Нашей колонне оставалось сделать еще каких-нибудь пятнадцать шагов. Я кусал губы, чтобы отец не услышал, как у меня стучат зубы. Еще десять шагов. Восемь. Семь. Мы шли медленно, словно следуя за катафалком на собственных похоронах. Еще четыре шага. Три. Теперь он был совсем рядом, этот ров, полыхающий огнем. Я собрал остатки сил, чтобы вырваться из колонны и броситься на колючую проволоку. В глубине души я прощался с отцом, со всем миром, и сами собой сложились слова, и губы прошептали: «Йитгаддал вейиткаддаш шмей рабба… Да освятится и возвеличится Его Имя…». Сердце готово было вырваться из груди. Итак, пришло время. Я стоял лицом к лицу с Ангелом смерти…
Нет. В двух шагах от рва нам приказали повернуть налево и ввели в барак.
Я с силой сжал отцовскую руку. Он сказал:
— Ты помнишь г-жу Шехтер — там, в вагоне?
Никогда мне не забыть эту ночь, первую ночь в лагере, превратившую всю мою жизнь в одну долгую ночь, запечатанную семью печатями.
Никогда мне не забыть этот дым.
Никогда мне не забыть эти лица детей, чьи тела на моих глазах превращались в кольца дыма на фоне безмолвного неба.
Никогда мне не забыть это пламя, навсегда испепелившее мою веру.
Никогда мне не забыть эту ночную тишину, навсегда лишившую меня воли к жизни.
Никогда мне не забыть эти мгновения, убившие моего Бога и мою душу; эти сны, ставшие горячей пустыней.
Никогда мне этого не забыть, даже если бы я был приговорен жить вечно, как Сам Бог. Никогда.
Нас привели в очень длинный барак. В крыше — несколько окошек, закрашенных синеватой краской. Должно быть, именно так выглядит преддверие ада. Те же обезумевшие люди, те же вопли, та же чудовищная жестокость.
Нас встретили десятки заключенных, которые колотили дубинками кого попало, куда попало и без всякой причины. На нас посыпались приказания: «Раздеться догола! Быстро! Los![11] В руках только ремни и обувь…».
Нужно было сбросить одежду в глубине барака. Там уже была целая куча. Старые и новые костюмы, рваные пальто, лохмотья… Мы обрели истинное равенство — равенство в наготе. И дрожали от холода.
Несколько офицеров СС ходили среди нас, выискивая крепких мужчин. Если здесь так ценится сила, может быть, стоит попытаться сойти за силача? Отец думал иначе. Он считал, что лучше не привлекать к себе внимания. Тогда мы разделим судьбу большинства. (Позднее мы убедились в его правоте. Тех, кого в тот день выбрали, включили в зондеркоманды — бригады, обслуживающие крематорий. Бела Кац, сын крупного коммерсанта из нашего города, прибыл в Биркенау первым транспортом, за неделю до нас. Узнав о нашем прибытии, он сумел сообщить, что из-за своей физической силы попал в зондеркоманду и собственными руками отправил в печь крематория тело отца.)
Удары дубинок продолжали сыпаться градом:
— К парикмахеру!
С ремнем и ботинками в руках меня потащили к парикмахерам. Их тупые машинки, выдирая волосы, брили полностью всё тело. У меня бы единственная мысль: только бы не потерять отца.
Освободившись из рук парикмахеров, мы стали бродить в толпе, встречая друзей и знакомых. Эти встречи переполняли нас радостью — да, именно радостью: «Слава Богу, ты еще жив!..».
Но другие плакали. Весь остаток сил они вкладывали в этот плач. Почему они допустили, чтобы их сюда привезли? Почему они не умерли в своей постели? Их голоса прерывались от рыданий.
Вдруг кто-то кинулся ко мне с объятиями: это был Ехиль, брат сигетского раввина. Он горько плакал. Я подумал, он плачет от радости, что еще жив.
— Не плачь, Ехиль, — сказал я, — побереги силы.
— Не плакать? Мы ведь на пороге смерти. Скоро мы уже будем там. Понимаешь? Там, по ту сторону. Как же мне не плакать?
Сквозь синеватые оконца в крыше я видел, как постепенно рассеивается ночная тьма. Я перестал бояться. И меня охватила нечеловеческая усталость.
Отсутствующие больше не тревожили наших мыслей. Мы еще говорили: «Кто знает, что с ними стало?» — но их судьба нас уже не заботила. Мы были не в состоянии думать о чем бы то ни было. Чувства притупились, всё расплывалось, как в тумане. Невозможно было ни на чем сосредоточиться. Инстинкт самосохранения, самозащиты, самолюбие словно отмерли у нас. В последний миг ясности мне показалось, что мы проклятые души, блуждающие в мире небытия и обреченные блуждать до скончания человеческого рода в поисках искупления, в попытке найти забвение — и без всякой надежды.
Около пяти утра нас выгнали из барака. Капо[12] опять нас били, но я перестал чувствовать боль от ударов. Нас обдало ледяным ветром. Мы стояли голые, с ремнями и ботинками в руках. Нам приказали: «Бегом!». И мы побежали. Через несколько минут мы прибежали к другому бараку.
У входа — бочка с керосином. Дезинфекция. Всех окунают в керосин. Затем горячий душ. Всё очень быстро. Сразу же из-под душа нас выгнали на улицу. Опять бежим. Еще один барак — склад. Длинные столы. Горы арестантской одежды. Мы бежим мимо них, а нам кидают штаны, куртки, рубашки и носки.
Через несколько секунд мы уже были не похожи на взрослых мужчин. Если бы ситуация не была столь трагичной, можно было бы умереть со смеху. Ну и маскарад! Великану Меиру Кацу достались детские штанишки, а маленькому и худенькому Штерну — огромная куртка, в которой он утонул. Мы тут же принялись меняться.
Я взглянул на отца. Как он изменился! Взгляд потускнел. Мне хотелось сказать ему что-нибудь, но я не знал что.
Ночь миновала. В небе сияла утренняя звезда. И я тоже стал совсем другим. Прежний я — мальчик, изучавший Талмуд, — исчез в языках пламени. Осталась лишь похожая на меня оболочка. Черное пламя проникло в мою душу и испепелило ее.
Столько событий произошло за несколько часов, что я совершенно утратил представление о времени. Когда мы покинули свои дома? А гетто? А поезд? Прошла только неделя? Или ночь — только одна ночь?
Сколько времени простояли мы так на ледяном ветру? Час? Неужели всего час? Шестьдесят минут?
Наверное, это был сон.
Неподалеку от нас работали заключенные. Одни рыли ямы, другие таскали песок. Никто из них даже не взглянул на нас. Мы стояли, как сухие деревья посреди пустыни. Позади меня кто-то тихо разговаривал. У меня не было ни малейшего желания прислушаться, узнать, кто говорит и о чем. Никто не решался повысить голос, хотя охраны рядом и не было. Все шептались. Может, причиной тому был густой дым, отравлявший воздух и оседавший в горле…