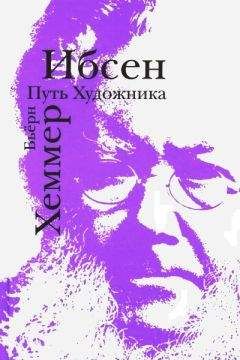Но Ибсен очень быстро отказывается от такого распространенного и слишком уж простого толкования этой проблемы — проблемы самореализации. И вопрос, к которому он потом все время возвращается, — это диалектическое противоречие между самореализацией и ответственностью перед другими, между интересами индивида и общества, между свободой и долгом. Мы можем уверенно утверждать, что постановка этой проблемы является наиболее актуальной как раз в наше время, когда апологеты частной собственности и рынка так настойчиво требуют изменить образ мысли европейского общества.
Разве нам не приходится слышать рассуждения в духе Йуна Габриэля Боркмана, который еще в 1896 году с пафосом заявлял, что желал стать могущественным промышленным магнатом не только ради собственной выгоды, — он надеялся через это облагодетельствовать многих. «Все богатства, которыми кишат здесь земля и скалы, леса и море… хотел я подчинить себе, обеспечить свою власть, и тем создать благосостояние тысяч и тысяч людей» (4: 339). Сам он не видит никакого противоречия между двумя этими целями. А в конкретной реальности, конечно, все предстает в другом — не таком уж радужном — свете.
Свобода, истина и пустота
Ибсен, несомненно, сознавал, что понятие свободы не может быть абсолютным и однозначным, — оно всегда относительно и в значительной степени зависит от своего времени. То же самое касается и понятия истины. Несмотря на всю относительность этих почтенных понятий, Ибсен постоянно их использовал, высоко поднимая знамя идеализма в своем творчестве. На личном уровне он был, что называется, активным поборником основополагающего права человека на свободу и самореализацию — на то, чтобы стать самим собой, — независимо от внутренних и внешних обстоятельств, которые могут препятствовать этому. Немногим из его персонажей удается реализовать этот принцип. По-разному они борются с постоянно подкрадывающимся ощущением, будто они не хозяева больше в своем собственном доме — не хозяева своего «я».
Человек как член общества всегда рискует утратить свой статус, устоявшийся порядок и стабильность в жизни, а для человека как индивида есть опасность и пострашнее. Здесь существует риск утратить самое дорогое — самого себя. Когда человек понимает, что он упустил все предоставленные ему возможности и не состоялся как личность, он чувствует себя подобно шекспировскому королю Лиру, который, оказавшись на грани пустоты и небытия, задает полный безнадежного отчаяния вопрос: «Is man по more than this?»[13]
Именно так происходит с Пером Гюнтом, который, бросив взгляд на прожитую жизнь, понимает, что он — всего лишь несостоявшаяся личность, «духовный банкрот». Он есть «никто» в этом мире: «И кто-нибудь, взобравшись на плато, отыщет надпись: „Здесь лежит никто“». Пер Гюнт признаёт, что надпись на его могиле, по всей вероятности, будет звучать именно так. Это как раз то самое тревожное и мучительное ощущение, что ты являешься как бы «никем», которое терзает Нору и приводит к тому, что она убегает прочь в этот открытый, огромный мир, чтобы стать хотя бы «кем-нибудь». Какими бы различными ни были обстоятельства жизни Пера Гюнта и Норы, им обоим приходится признать, что отказ от ответственности за свою жизнь есть предательство самого себя.
Это самый главный и мучительный страх, который терзает героев Ибсена на протяжении всей пьесы. Это спрятанное в потаенных уголках души ощущение собственного ничтожества и невыносимой пустоты бытия, которое носят в себе и Грегерс, и Росмер, и Гедда Габлер, и Сольнес, и Рубек и которое они не желают признать. Это доходящий до дрожи в теле страх растратить зря свою жизнь. Для большинства героев Ибсена жить означает — не сдаваться. Когда им остается лишь одно — опустить руки и смириться, они предпочитают смерть жалкому существованию. Потому-то Реллинг и прав в своем циничном отношении к жизни. Согласится ли Грегерс стать тринадцатым за накрытым столом? Стоит ли вообще такая жизнь того, чтобы ею жить? Именно с этим вопросом Ибсен постоянно сталкивает своих героев. И нас тоже.
Так змеится между строк ибсеновских текстов не покидающая их экзистенциальная тревога — как раз в тех местах, где, как утверждал Бергман, можно разглядеть собственное «я» писателя. Некоторые высказывания Ибсена в последний период его жизни, а также эпилог к драме «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1899) свидетельствуют о том, что определенная тревога в его собственной душе все нарастала, становилась все нестерпимее. Но, по сути, во всем его творчестве звучит тема страха — что уже слишком поздно, что жизнь растрачена зря. В главное свое произведение, венчающее весь его творческий путь, Ибсен вводит персонажа по имени Рубек, который имеет много общего с ним самим. В горьком прозрении Рубек скорбит о своей «загубленной жизни».
На протяжении полувека трудился Ибсен над тем, чтобы подарить творческую жизнь этим образам. Образам героев и героинь, которые доходили до той черты, где они могли увидеть свой подлинный облик.
«Ибсен и его герои — сплошь лжецы»
Ингмар Бергман в своей книге «Laterna magica»[14] пишет, что величайшие из драматургов непредсказуемы и что их творчество требует от тех, кто с ним соприкасается, немалого терпения. В связи с этим Бергман отмечает, как трудно бывает понять всех лжецов, выведенных в пьесах Ибсена.
В современных исследованиях творчества Ибсена наблюдается устойчивая и довольно однобокая тенденция преувеличивать значение того факта, что Ибсен был вообще невысокого мнения о нравственной стороне человека. Многие исследователи считают, что вся художественная реальность Ибсена основана на циничном, целенаправленном разоблачении человека как по сути своей аморального и лживого существа. За любым благопристойным фасадом и за всеми правильными словами всегда скрывается закоренелый эгоизм. (Пожалуй, такая трактовка более справедлива по отношению к нашему времени, нежели к эпохе Ибсена.)
В работах датских исследователей творчества Ибсена, особенно тех, кто близок к Оге Хенриксену[15], сложилась традиция рассматривать персонажей Ибсена как законченных лжецов, движимых демоническими силами. Понятие, постоянно используемое этими исследователями, — так называемый двойной подтекст. Герои на сцене говорят одно, а подразумевают другое, не желая при этом — сознательно или бессознательно — быть разоблаченными. Конечно, не подлежит сомнению, что подобный прием нередко используется Ибсеном. Но если каждое действие персонажа обусловлено столь двойственными мотивами, это вызывает недоверие ко всему, что сей персонаж выражает. И тогда основную роль в драме начинает играть подтекст. Есть текст, выражаемый словами, а есть подтекст, отражающий желания и устремления человека. Эти исследователи, однако, не умеют разграничить ситуации, когда герои лгут или действуют, повинуясь скрытым, отнюдь не благородным мотивам, — и ситуации, когда герои все же стремятся быть честными. Ибо такое тоже случается.