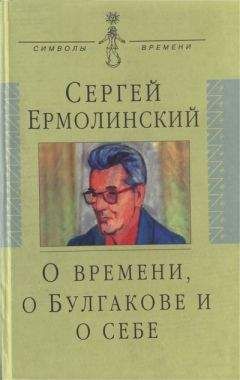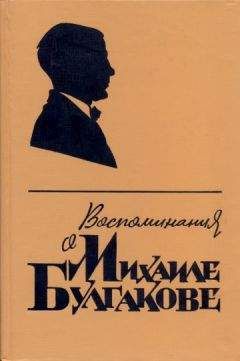Из массовых действ Марии Петровны ничего не получалось, обыватели шагали уныло, но в октябрьские, майские дни, в день Парижской коммуны мне полагалось устраивать концерт-митинг в городском театре. Исполнителями были актеры театра и любители. В один из таких праздников я сам грозно читал из Артура Арну «Мертвецам коммуны», а актриса Одоевская — мои стихи (стихов я не писал, эти были написаны из-за отсутствия революционного репертуара).
Все губкомовское и губисполкомовское начальство присутствовало на этих концертах. В поощрение моей деятельности (и дабы немного приодеть меня, окончательно износившегося) мне были выданы ордера, по которым я приобрел те самые кожаные штаны, зеленый френч и сапоги с короткими голенищами, в которых я и появился в Москве. В Университет и в Восточный институт поступил по путевке Губнаробраза. И больше никогда не стоял я на правительственных трибунах в праздники, не было у меня «ответственных пайков», персональной (да и никакой) брички, секретарей и подчиненных. Неактуальное высшее образование (филолог), отсутствие честолюбия (не возглавлял, не руководил) и, наконец, вольная профессия незнаменитого литератора избавили меня от этих бед.
Можно было бы сочинить целую повесть об этом. Но зачем стеснять себя заведомыми рамками? Я профессиональный сочинитель сюжетов, у меня оскомина от сочинительства, да и что такое, в конце концов, повесть, что такое роман? Может быть, это как раз то, что я пишу, не ограничивая себя «сюжетом»? И я пишу не мемуары, даже не воспоминания о знаменитых людях и знаменательных событиях, а всего лишь рассказ, как складывалась моя жизнь и, главное, размышления, думы о том, что было в пути: о времени, о друзьях, о себе[7].
В начале Мясницкой я свернул направо и Кривоколенным переулком вышел в Армянский. Я шел, не спрашивая, потому что весь маршрут от вокзала был мною досконально изучен еще в Калуге. И я сразу догадался, что передо мною особняк бывшего Лазаревского Института, мой новый дом. Он возвышался в углублении, перед ним был небольшой палисадник, а за ним, как я потом узнал, парк. Мы называли его — сады лицея.
Я поселился в одной из комнат общежития. Нас было шестеро: здоровенный парень из Симбирска Голомбек, три корейца — Ким-Вон, Ким-Чен-Ха и Ким-Сан-Таги. Ким-Вон и Ким-Чен-Ха окончили токийский университет, они не говорили по-русски, Ким-Сан-Таги говорил. Он уже давно приехал в Москву, был коммунист, организовывал комячейку в Институте, к его академическим занятиям преподаватели относились снисходительно. А Ким-Вон и Ким-Чен-Ха снова засели за школьную парту: учились русскому языку и революции. По своим убеждениям они были похожи на наших народников конца прошлого века. Кроме того, Ким-Вон был поэт. «Медлен Амур, но он впадает в великое море» писал он (по-корейски, я переводил). Мы дружили. Пятым был Дзи-До-Ся — это было прозвище верблюдообразного, очень высокого, очень ссутулившегося человека (он казался горбатым). Он был русский, настоящую фамилию его мы узнали позже, но мы и не называли его по фамилии. Дзи-До-Ся по-японски — грузовик. Шестой — я. В центре комнаты стоял длинный стол, за которым мы занимались. Дзи-До-Ся, самый старательный, сидел над книгами целый день. Кроме классов и столовой никуда не выходил. Он был немолодой и зубрил, зубрил, стараясь изо всех сил, боясь чтобы его не выгнали. Как он попал в Институт, я не знал, но позже выяснилось, что фамилия у него вымышленная, а на самом деле он колчаковский штабс-капитан Коротков. Через год он был изобличен, арестован и исчез. Его взяли из общежития, и когда он складывал вещевой мешок, руки у него дрожали и он все время оглядывался на молчаливого чекиста, стоявшего у двери. Вышел, не попрощавшись и не оглянувшись в нашу сторону…
Большинство студентов, получивших места в общежитии, были так дурно одеты, что нам решили выдать мундиры бывших воспитанников Лазаревского института: черного цвета с ярко-красными, подпирающими щеки воротниками, с золотыми пуговицами. Пуговицы заменили обыкновенными, «штатскими». Мундиры не всем пришлись впору — кому широк, кому узок. Брюки остались наши — у кого солдатские, в сапоги или в обмотки, у кого навыпуск. Головные уборы у всех были разные: солдатские фуражки, ушанки, даже шляпы. Когда мы собрались в столовой, переряженные в это странное платье, то наша кухарка Серафима только всплеснула руками: мы были похожи на разгромленное царское войско при отступлении. А кто-то из нас (дело было весной) вышел в этом наряде на улицу и был задержан милиционером, как подозрительный обломок империи. Директор Института арабист Атая, приказал мундиры снять. Летом кое-кому удалось выменять их на муку. Но это были счастливцы. Повезло и мне: мой мундир уехал в Борисполь на Украину, где стояла батарея моего зятя. Вместо мундира я получил около пуда муки — колоссальная поддержка по тем временам. Наш паек был нищ и скуден. У нас был утренний чай (чаще кипяток без всякой заварки) с половиной дневного хлеба (200 граммов), в четыре часа — обед.
Столовая находилась в полуподвальном помещении. Лед не стаивал зимой по углам. В столовой, как и в классах, и в нашей комнате, мы пальто не снимали. Мы раздевались лишь ложась спать, ныряли под одеяло и накидывали на себя пальто. Изо рта валил пар. Но у нас было веселое настроение. Мы голодали и холодали одинаково, это важно. И все кругом голодали и холодали. Мы отнюдь не были беднее других. Конечно, трудновато было держаться на кипятке с краюшкой глиняного хлеба, на обеденном брандахлысте с несколькими капустными волокнами, на двух посиневших от мороза картофелинах и на кашице, едва прикрывавшей дно тарелки, с янтарным кружочком льняного масла посередине.
Больше всех страдал от голода громадный Голомбек. Если кто-нибудь из нас получал посылку, она делилась по-братски. Само собой так получилось. В голову никому не могло бы прийти поступать иначе. Но вот однажды наш бедный Голомбек скрыл от нас свои запасы и ночами, когда все спали, тихо, по-воровски глотал куски сала и грыз очерствелые домашние лепешки. Мы застукали его. Он был предан позору. Как грозные судьи, мы стояли перед ним, закутанные в одеяла. Он даже и не думал оправдываться, он просил пощады, почти плакал от стыда. И когда после этого трагического случая, вновь пришла на его имя посылка, он торжественно поставил ее на стол, предложив разделить поровну. В общий котел мы взяли лишь небольшую часть и с жаром доказывали, что при его грузчиковой силище он, Голомбек, как никто из нас, нуждается в дополнительном питании. Он пытался отказываться. Но закон нашего общежития во всех случаях был тверд, и это был закон дружбы.