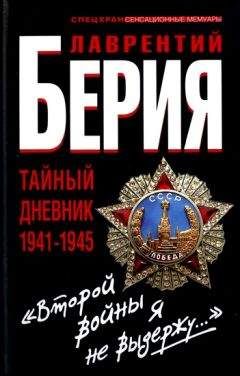Так как у меня было всего три года срока, то меня никуда не отправляли, и я пробыла в этом пересыльном пункте до 21 марта 1949 года.
21 марта, утром, я получила справку об освобождении и покинула лагерь.
Последнюю ночь в лагере я провела совсем без сна, и казалась она мне бесконечной.
Я вышла за ворота. Впереди было три километра полем до железной дороги. Это была та дорога, по которой я три года назад прибыла в лагерь.
Немного отойдя от лагеря, я оглянулась. Никогда мне не забыть этой увиденной мною картины: на крышах бараков стояли сотни заключённых и махали мне руками, шапками, платками…
Я вдруг почувствовала себя виноватой в том, что я ухожу, а они остаются доотбывать свои десять, пятнадцать и двадцать пять лет.
В поле, по которому я шла, не было ни единой души. Я горько плакала навзрыд, истерически кричала и сама пугалась своих криков — всю свою боль, всё, что я видела и пережила за эти три года, я вложила в эти горькие слёзы, в эти истерические крики.
Я приехала в Москву и только там обратила внимание, что в моём паспорте, который мне выдали в Мариинске, помечено ограничение в месте жительства и я, оказывается, не имею права жить в Москве.
Пришлось обратиться в МВД, где мне сказали, что после трёхлетнего срока мне не должны были выдавать такой паспорт, что это ошибка паспортистки в Мариинске. Все охали над этой ошибкой, но помочь мне никто не мог: паспорт, видите ли, документ неприкосновенный.
В поезде я сильно простудилась и заболела радикулитом. Боли были мучительные, и мои друзья, жившие в курортном городе Сочи, меня пригласили к себе отдохнуть и подлечиться.
Три месяца совсем неподвижная лежала я в постели, но это не смущало милицию — ко мне приходили ежедневно и требовали, чтоб я немедленно уехала, так как с моим паспортом меня даже временно, как отдыхающую, прописать не могли. Много неприятностей с милицией имели мои гостеприимные, добрые друзья, пока я стала на ноги.
Сразу же по выздоровлении я уехала опять в Москву с решительным намерением найти пути и исправить ошибку паспортистки. Целый месяц я бегала по разным инстанциям, но всё безуспешно.
21 июля 1949 года меня снова арестовали.
Опять меня привезли на Лубянку, и следователь мне заявил, что нового дела заводить не будут, так как это ошибка моего первого следователя, который подвёл дело так, что мне дали только три года.
И теперь по «старому делу» то же Особое совещание дало мне десять лет.
В этот раз меня отправляли на этап не из Бутырской тюрьмы, а из Лефортовской.
Лефортовская тюрьма, построенная ещё в бытность Петра Великого, очень пригодилась чекистам. Они её переоборудовали согласно своим «вкусам», и тюрьма эта в настоящее время подлинное чудо советской тюремной техники.
На втором этаже устроено пять железных мостиков, довольно длинных, а в центре, на площадке, стоит солдат с двумя красными флажками и регулирует движение: его цель ни в коем случае не допустить встречи заключённых, которых беспрерывно ведут из разных камер на допросы. Этот регулировщик настолько натренирован, что из десятка тысяч арестованных никто никогда друг с другом не сталкивается: солдаты, ведущие на допросы заключённых, внимательно присматриваются к сигналам регулировщика.
Уборные в Лефортовской тюрьме тут же, в камерах; нижнее бельё для всех одинаковое — мужские кальсоны и рубаха (кстати сказать, немецкого производства), сверху же носится то, что имеет заключённый.
Хотя «нового дела» на меня не заводили, меня продержали в Лефортовской тюрьме семь месяцев, но уже не в одиночной камере, а с сокамерницей, которая тоже была арестована вторично. Сидели мы в малюсенькой холодной камере, где можно было делать только два шага между нашими постелями.
Снова этап, но уже не в Сибирь, а в Казахстан.
На этот раз вагон не с решётками, а так называемый «телятник», в котором обычно перевозят коров и лошадей. В этом вагоне нас было девяносто две женщины, все арестованные вторично. Все полураздетые, так как из дома тёплых вещей передавать не разрешали.
Надо сказать, что многие заключённые, пережившие 1937 год, говорили, что 1949 год был куда страшнее и жесточе. Издевательства над людьми приняли такой размах, какого даже при Ежове, в 1937 году, не бывало.
С двух сторон в нашем вагоне были двухэтажные короткие нары, а посредине узкий проход, где стояла печурка, застывшая, холодная, как и сердца тех, которые нас везли.
Два раза в день нас пересчитывали. Это была унизительная процедура: нас сгоняли в один угол, и в этой тесноте всегда какая-нибудь заключённая оказывалась на полу — и по ней ходили. Пересчитывая, нас перегоняли в другой угол.
Один раз в день нам давали миски с чем-то совершенно несъедобным, называли это кашей — это было холодное, застывшее варево из овсяной крупы. К этому давалась кружка «чая», совершенно холодного, и кусочек чёрствого хлеба.
Так мы ехали месяц.
Однажды в вагон зашли два солдата и принесли нам немного дров, чему мы очень обрадовались.
Так как спички иметь заключённым не полагается, солдаты подождали, пока женщины растопили печку, потом, забрав спички, ушли, а мы все, по очереди, поддерживали огонь, чтоб он, упаси Боже, не погас. В конце концов вагон нагрелся, иней на окнах растаял, стало тепло, последние дровишки догорели, все уснули.
Проснулась я от резкого крика и брани солдат. Я лежала на снегу и вокруг меня все женщины из нашего вагона. Все мы были без сознания.
Рано утром, когда нас пришли считать, вагон был полон дыма, и мы все угорели. Что произошло, как появился этот угар, никто не знал. Солдаты нас в бессознательном состоянии, полураздетых, выбросили на снег и проветривали вагон.
Из всех других вагонов раздавались отчаянные крики и удары в дверь: заключённые, запертые в телятниках, не зная в чём дело, кричали из вагонов: «Почему стоим? Почему не едем? Холодно!».
Солдаты хлопотали вокруг нас, и постепенно все пришли в себя; только одну бедняжку, совсем юную девушку, не могли спасти: её, мёртвую, уволокли куда-то.
Казахстанские морозы отличаются от сибирских тем, что там при температуре 50–60 градусов дуют ужасные ветры.
Мы прибыли в Казахстан, на станцию Джезказган, ранним утром.
Замёрзших, совсем обессиленных, нас вывели из вагона, и мы вдруг увидели перед собой большую толпу заключённых-мужчин, окружённых солдатами с собаками.
Когда мы вышли из вагона, все эти заключённые бросились к нам. Ни грозные команды конвоя: «Назад!», ни бешеный лай собак их не остановили. С неизъяснимой жалостью и нежностью к нам наши братья по несчастью стали снимать с себя кто что мог и одевать нас.