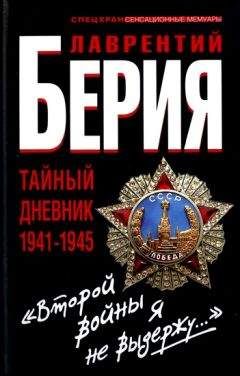Если нормально в этих купе могут поместиться восемь человек, то заключённых там было по тридцать — тридцать пять. У каждой решётки стоит солдат с ружьём. Воздух в этих вагонах настолько тяжёлый, что люди всё время находятся в полуобморочном состоянии.
Как мы потом узнали, в этом составе везли 1500 заключённых уголовников, и лишь только мы — шесть женщин из Бутырской тюрьмы — были «политические».
Нас поместили отдельно в конце вагона в маленькой клетушке с одной скамьёй, на которой могли сидеть четыре человека. Чередуясь, две из нас должны были сидеть на полу. На ночь мы с трудом могли протянуть ноги, кладя их друг на друга, пять человек, шестая, по очереди, сидела у двери на корточках всю ночь, не имея возможности пошевельнуться.
Увы, это было нашим жилищем в течение двадцати восьми суток.
Нестерпимо долго и нудно тащился поезд в Сибирь, останавливаясь каждые два-три часа в степи, — везя нас в мороз, в пургу, на изнурительный труд, на гибель…
Три раза в день заключённым давали кусок рыбы, густо покрытой солью, а по утрам — кусок чёрного месива, именуемый хлебом. Но весь ужас в том, что не было воды. Поезд всё время находился в степи, и воды невозможно было достать.
Не смолкая, заключённые, мучимые жаждой, кричали; «Конвой, воды!».
Конвой молчал.
Воды не было.
Затем стали кричать:
— Конвой, уберите труп! Конвой, человек умер!..
Железная решётка открывалась, мёртвого человека выволакивали, с деловым видом решётку снова закрывали, и поезд снова тащился, увозя с собой всё больше и больше трупов.
Мы — шесть женщин, забитые в угол, — предпочли голодную смерть смерти от жажды.
В моём кармане были корочки от мандаринов, которые моя мать мне приносила в тюрьму, когда разрешены были передачи. Мы брали эти корочки в рот, разжёвывали их — и эту горечь глотали вместе с беспомощными слезами, но солёную рыбу, несущую смерть, мы не ели.
За двадцать восемь суток нам только три раза давали воду, и казалось, что никогда не будет конца этим мучениям, этим крикам, этим стонам и смертям.
Новогодняя ночь.
Идёт 1947 год…
Моя очередь сидеть на полу, в углу, у самой двери. Ноги мои затекли, боль в спине и в голове. В воображении картины прошлого, дети, мама, дом…
Перед моими глазами — сквозь решётку мне видно — делая по три шага в одну и другую сторону, ходит солдат.
Я машинально смотрю на его ноги.
Это юный солдат, совсем ещё мальчик, несущий эту страшную службу.
На весь вагон горит одна малюсенькая лампочка. Люди сквозь сон разговаривают, иногда кричат, плачут и, конечно, всё время слышно: «Конвой, воды!», «Конвой, человек умер!».
Неожиданно ноги солдата остановились.
Он присел на корточки и шепнул мне:
— Разбуди девок.
Все проснулись, испуганные, бледные, измученные…
— Девки, хотите супу?
Никто ничего не понял и не успел ещё сообразить, как юный солдатик тихонько открыл решётку и поставил нам на колени полведра солдатского супа, настоящего, с мясом, ещё тёплого.
Запах супа так подействовал на нас, голодных, что у всех закружилась голова.
— Ешьте скорей, — торопливо заговорил солдат, — пока начальник конвоя спит, узнает, как собаку меня застрелит.
Надо было скорее съесть этот суп, но не было ложек.
Одна из нас порылась в своей котомке и вытащила ложку без ручки, в этой тесноте ручка обломалась.
Она взяла этот обломок ложки и предложила рядом сидящей.
Та сделала то же самое.
Каждая из нас, глядя на голодные лица остальных, не смела первой зачерпнуть этот злосчастный суп.
Но солдат за решёткой не мог нас понять. Он торопил нас:
— Ешьте, дуры, скорей!
Никто к супу не прикоснулся.
Солдат открыл дверь, матерно выругался и унёс ведро обратно.
До сих пор в моих ушах стоит этот тихий жалобный плач, которым плакали мы все в этой страшной клетке, заброшенные, замученные чекистами, которые как нельзя усерднее выполняли и даже перевыполняли свой план в поисках «преступников». Они соревновались, как должны соревноваться советские люди в настоящем социалистическом соревновании на первенство, за лучшие показатели. И эти изверги-следователи получали премии за каждый перевыполненный ими план мучения людей.
Когда кончилась эта страшная ночь, из всех купе-камер слышно было, как заключённые кричали друг другу традиционное новогоднее поздравление: «С Новым годом, с новым счастьем!».
Только 13 января 1947 года наш поезд прибыл в город Мариинск, Кемеровской области, в Западной Сибири.
Нас, шесть политических, вывели последними.
Мы увидели необъятное заснеженное поле, огромное количество солдат с собаками и офицеров.
Все уголовники, уже выгруженные из вагонов, были построены по пяти в ряд и, чтобы не убежали, связаны наручниками между собой.
В стороне стояло восемь телег с трупами умерших по дороге.
Морозный свежий воздух буквально опьянил нас после двадцативосьмисуточною пребывания в страшной вони.
К лагерю нужно было идти пешком. Предстоял трёхкилометровый переход.
Угрюмые, голодные, молча шли заключённые под лай собак и бесконечные окрики конвоя: «Шире шаг!».
Всё это шествие завершали телеги с умершими по дороге, покрытые брезентом, который весь был засыпан снегом…
Яростный ветер, пурга и лютый сибирский мороз были настолько нестерпимы, что, казалось, весь мир сговорился добить несчастных людей…
В лагерях есть нигде неписанные, но обязательные законы, и один из них: «Те, кто имеют, дают тем, кто не имеет».
Поэтому, когда приходит этап, то заключённые, которые уже обжились в лагере, особенно те, кто получает посылки из дому, непременно выходят к вахте встречать новоприбывших из тюрем с хлебом, сигаретами, сахаром, — кто с чем может.
Когда мы прибыли в лагерь, нас тоже встречала толпа заключённых, и кто что мог давал тем, кто входил в ворота.
Всех прибывших уголовников развели по баракам, а нашу шестёрку привели в баню. Там было тепло и мы быстро согрелись.
К нам вошёл человек, ещё молодой, но с большой бородой, без головного убора, в огромных валенках и в шубе. Это был заключённый, москвич, доктор Хабад. Ему поручили нас осмотреть и принять в лагерь.
После осмотра доктор Хабад забрал нас, двух москвичек, к себе в маленькую комнатку при больнице, где он жил. Там собралось человек десять москвичей, каждый принёс что мог, и на столе было очень много еды. Но когда Хабад узнал, что мы не ели почти месяц, он немедленно забрал всё со стола и дал нам только чай с сухарями. Затем он нам строго приказал ничего не есть без его разрешения: люди, приехавшие из тюрем голодные, набрасывались на всякую еду и умирали.