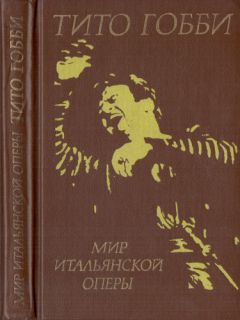Что касается меня, то я вижу Дон Жуана мужчиной, лучшие годы которого остались позади. К моменту начала действия моцартовской оперы он уже понимает собственное бессилие. Немудрено, ведь, если верить «Списку» Лепорелло, Дон Жуан успел пожить. Да как пожить! Но больше к этому громкому списку он не в состоянии присовокупить ни единого имени.
Начиная с первой сцены – его неудачи с Донной Анной, – Дон Жуан не добивается успеха ни у одной женщины, даже у смиренной служанки Эльвиры. Положим, обстоятельства всякий раз против него, но ведь раньше, более двух тысяч раз, он подчинял себе обстоятельства. Жуан не потерял еще былой величественности; его блестящая дерзость и самоуверенное обаяние напоминают нам о той силе, которая была заключена в нем когда-то. Но с той минуты, когда Командор указывает на него перстом обвинителя, начинается падение Жуана, которое в конце концов низвергнет его в бездну.
Жуан, конечно, вначале не представляет, каков будет его конец, но я думаю, что в душе он сознает: звезда его закатилась. И осознание этого становится яснее и яснее по мере того, как он все больше убеждается в том, что прежняя роль неотразимого соблазнителя ему больше не по плечу.
Мне кажется, что и в музыке, и в драматургии оперы все время ощущается какой-то лихорадочный вызов, отчаяние человека, который уже не может довериться оружию, раньше служившему ему безотказно. Его постоянные неудачи со всеми женщинами на протяжении драмы могут только способствовать этому мучительному прозрению.
Безжалостная решительность в интриге с Донной Анной, грубое нетерпение по отношению к брошенной им Эльвире, беспечный и чересчур легкомысленный флирт с неискушенной Церлиной – так не стал бы, мне кажется, вести себя мужчина, твердо полагающийся на умение привлекать и покорять женщин. Он как-то растерял свое обаяние и в ярости от этого.
Весьма существенно то, что Дон Жуан вовсе не собирался убивать Командора. Его принудили обстоятельства, у него не было иного выбора. До тех пор он управлял событиями. Теперь события подчиняют его себе. Внешне он может быть столь же уверенным в себе, наглым, его дерзкое обаяние кажется даже еще большим, но внутри человека что-то сломалось.
Обаяние и веселый нрав (а именно в них, как мы можем небезосновательно предположить, была заключена неотразимая прелесть юного Жуана) мало-помалу начинают меркнуть. Величавость-то прежняя, но взор холоден и высокомерен, полный, чувственный рот изогнут в горькой усмешке – вид его уже не привлекателен, а угрожающ. Жесты выразительны, но это нервная выразительность, походка все еще стремительна, но в ней проглядывает кошачья вкрадчивость. Призрак мужского бессилия навис над тем, кто еще недавно гордился титулом короля среди мужчин.
Если идея Да Понте заключена действительно в этом (а мне представляется именно так), то Моцарт воплотил ее в своей музыке в совершенстве.
Сверхъестественные происшествия финала можно опять-таки интерпретировать неоднозначно. И Жуан, и в меньшей степени Лепорелло после убийства Командора не могут избавиться, как сказали бы мы сейчас, от комплекса вины. Они не говорят об этом друг с другом, но убийство лежит на них тяжким грузом, и стоит, пожалуй, призадуматься, не преступная ли совесть причина того, что им пригрезилось, будто статуя кивнула в ответ на издевательское приглашение отужинать.
И вот перед нами еще один очень важный персонаж. Это Командор, чье присутствие ощущается на протяжении всей драмы, хотя он умирает всего несколько минут спустя после того, как подымается занавес. Он поистине deus ex machina всей пьесы. Смерть его побуждает Донну Анну искать отмщения, но в конце концов именно он сам воздает по заслугам нераскаявшемуся развратнику.
Оскорбленный Дон Жуаном даже в могиле, он принимает насмешливое, наглое приглашение отужинать. И когда его грозный призрак является, чтобы сдержать обещание, он возвещает Жуану, что время пришло: тот должен предстать пред господом и ответить за свои прегрешения. Последний жест милосердия: он протягивает грешнику руку, убеждая того покаяться в последнее мгновение его жизни. Но Жуан отталкивает протянутую руку – и ввергнут в преисподнюю.
У многих такое вот всамделишное появление неуклюжей каменной статуи не вызовет недоумения – не будем забывать, что подзаголовок оперы «Каменный гость». Но вместе с тем не знаю, почему нельзя предположить, что вся финальная сцена ужина и ее кульминация – явление статуи – плод воспаленного воображения Жуана и Лепорелло.
Что до того, как все это устроить на сцене, то мне кажется, лучше предпочесть каменной глыбе что-нибудь поэфемерней, а реальности – намек на нее. Немного дыма, хитроумной подсветки: игра ветра, облаков, лунного света, представить можно что угодно. К тому же, когда ты просто видишь что-то перед глазами, это не так страшно, как непонимание, наяву ты или грезишь.
Подлинен призрак Командора или он лишь порождение больной совести, отягощенной преступлением? Над этим стоит подумать, и каждый сам должен сделать выбор. Впрочем, так и не решив эту задачу, мы попросту добавляем лишь еще один вопрос к великому множеству прочих, на которые все это время искали и ищут ответ те, кто хочет разгадать вечно манящую к себе колдовскую тайну, имя которой «Дон Жуан».
ГЛАВА 5. ДВА ФИГАРО ("Севильский цирюльник")
«Севильский цирюльник». Музыка обрушивается на тебя, как приливная волна, все погребающая под собой. Напор, чисто физический, таков, что перехватывает дыхание. Потом волна отступает, оставляя прозрачные блестки сверкающих на солнце звуков. Хотя нет, они шипят и потрескивают, точно в кипящее на сковородке масло брызнули немного воды. Россини, полагаю, не обиделся бы на меня за такое сравнение – он сам был охотник до острых блюд. (Впрочем, он, кажется, не любил жареного.) Сегодня техника вокала не в чести: не требуется ни умения выдерживать правильно ритм, ни изящества в жестах и пении, ни живости и отчетливости дикции. Ужину с шампанским предпочитают попойку за картами.
Недавно я опять посмотрел фильм, снятый по этой опере в 1947 году. Я пою в нем заглавную партию. Я переживал все внове, и понравился фильм мне чуть ли не больше, чем тогда. Он принадлежит другому миру, далекому и утерянному, но, надеюсь, не безвозвратно. Как я наслаждался в юности, когда разучивал «Цирюльника» с его бесподобными сменами ритма, как был буквально очарован богатством и яркостью музыки! Редкая опера была так близка мне по духу. Даже и теперь, когда я вспоминаю артистическую юность, меня охватывает щемящее чувство тоски по тем годам, когда я был строен и ловок – и в движениях, и в пении – и пребывал в блаженном неведении, не подозревая о великом чувстве ответственности и непрестанном напряжении, которых потребует карьера оперного певца. Я не изучал специально характер Фигаро, не обдумывал его с каким-то особым тщанием. Фигаро как-то сам собой пришел ко мне, и это было величайшим удовольствием. Но вот над музыкой и вокалом мне пришлось изрядно потрудиться.