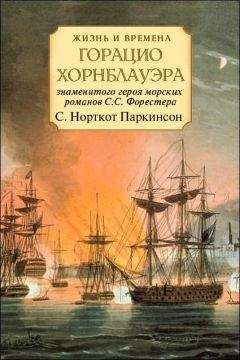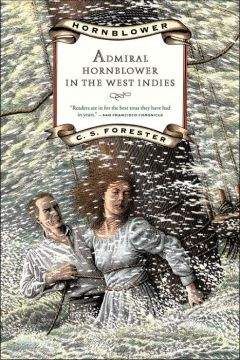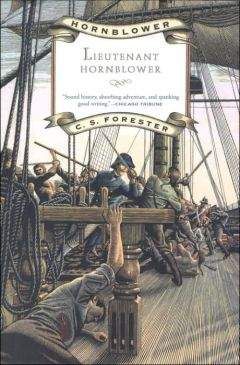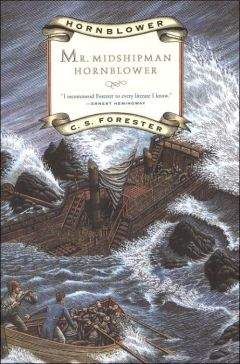Это первое свое посещение Лондона Горацио главным образом посвятил подготовке экипировки для службы. Мистер Роусон был в хороших отношениях с портным и поставщиком с улицы Лиденхолл, который мог обеспечить все необходимое и по самым низким ценам. Парадный мичманский мундир должен был быть пошитым из голубого сукна, а сюртук с подкладкой из белого шелка был украшен золотыми пуговицами с якорями. На воротнике была белая нашивка, которую называли «недельный счет». Этот костюм дополняли панталоны и жилет из белой нанки, с соответствующим образом подобранными чулками и треуголкой. На каждый день нужна была короткая рабочая куртка и брюки, лакированная шляпа и лодочный плащ. Для холодных зимних дней начинающий офицер должен был запастись мохнатым теплым плащом. К этому основному комплекту следовало еще добавить комплект рубашек с жабо и чулки, учебники по теории корабля и навигации, секстан и (в качестве личного оружия) мичманский кортик, с рукоятью, обтянутой акульей кожей. Все это предстояло как следует упаковать в мичманский сундук, на крышке которого нужно было разборчиво написать имя владельца. Затем нужно было еще заплатить агенту командира семьдесят фунтов, с тем, чтобы мичман мог время от времени получать небольшие карманные расходы, из которых он оплачивал бы свои расходы по кают-компании младших офицеров. Все это поглотило деньги Хорнблауэра с большим запасом, и его дядя весьма неохотно доложил недостающую сумму из собственного кармана. Только после того, как Хорнблауэр уже вышел в море, мистер Роусон узнал о существовании двух других его дядей — по отцовской линии, Джонатана и Джейбза Хорнблауэров. Он установил с ними связь и получил от Джонатана часть годового содержания для Горацио. Эта сумма должна была выплачиваться на протяжении последующих четырех лет, причем родственником, которого Горацио до тех пор ни разу не видел. Тем не менее, в будущем он с лихвой вернул этот долг.
Когда приготовления были закончены, мистер Томас Роусон посадил Горацио в дилижанс, отправляющийся в Портленд, и дал ему рекомендательное письмо к капитану Кину. Затем дядя пожелал племяннику счастья и подождал, пока дилижанс не двинулся в путь. Он и без того сожалел о незапланированных расходах, а тут еще Гарриет огорчалась оттого, что мичманский мундир Горацио оказался не слишком-то хорош. Конечно, Томас был патриотом и пекся о пользе Королевского флота. Сейчас он как раз внес свой вклад в дело повышения обороноспособности своей страны. Мог ли он и дальше выплачивать мальчику его содержание — это был уже другой вопрос. Однако ведь было вполне возможным, что через год или два Горацио погибнет, как это часто случается на военном флоте во время войны, и при этом не нужно будет даже тратиться на похороны. Служба была тяжелой, а парень не производил впечатления особо крепкого. С другой стороны, всегда существовала вероятность получения призовых денег. Правда, их часть, приходящаяся на долю мичманов, была скорее невелика, зато существовала и возможность повышения, особенно в Вест-Индии. Если его туда пошлют, мальчик мог бы на некоторое время иметь обеспеченный быт. Одно было абсолютно ясно — добиться назначения Горацио на должность мичмана было тем максимумом, который позволяли возможности Роусонов, — такие или почти такие мысли вертелись, вероятно, в голове Томаса Роусона, когда он возвращался (пешком) на Портмен-сквер. Он не мог абсолютно ничего сделать, чтобы добиться для Горацио патента на чин лейтенанта. С этой минуты молодой человек обречен был окончательно — да, таки окончательно, — рассчитывать только на собственные силы.
Прибытие лондонского дилижанса всегда было событием в жизни Плимута. Даже если три последних мили дилижанс ехал медленно, приближаясь к городу он всегда увеличивал скорость, и лошади почти галопом проносились под сводчатыми воротами. С треском бича и пением рожка дилижанс останавливался «У Георга», оставлял в ней почту и гражданских пассажиров, затем проезжал по Хай-стрит и далее под следующей аркой и по разводному мосту на бульвар. Повернув вправо доезжал до мыса, пробирался по узкой улочке прежде, чем задержаться у «Звезды и Подвязки», и, в конце концов, останавливался у таверны под названием «Голубые Столбы». Здесь и высадился юный Горацио и здесь же, у входа, сгрузили его морской сундук. Дилижанс повернул и поехал обратно в город, а Горацио, достаточно робко, вошел в кафе. Офицеров здесь не видали, гражданских — также нет. Это было прибежище мичманов. Каждый из юношей, находившихся здесь в тот памятный день, пил чай за двоих и уминал гренки за шестерых. На Хорнблауэра, как на явного новичка, никто не обратил ни малейшего внимания. Попивая чай в дальнем углу от камина, вокруг которого столпились остальные, Хорнблауэр мог впервые прислушаться к языку, на котором Королевский военно-морской флот разговаривал в 1794 году. Юноша уже слышал россказни старых моряков на побережье Дилла, но тут был Портсмут, и была война. Это был мир, о котором Горацио не мог знать абсолютно ничего.
Где бы люди ни собирались с какой-либо целью, обмениваясь с окружающими техническими особенностями своего ремесла, да еще перед лицом ежедневно грозящей им опасности, там всегда вырабатывается свой особый язык. Это не был просто язык войны — как это было здесь, на Портсмут-пойнт — но язык именно этой войны. Во время Второй мировой войны в Великобритании все разговаривали на каком-то странном сленге, но при этом у каждой службы был свой, особый арго, скажем, Язык Сигнальной ракеты или Сурового моря.
При этом официальные и технические термины дублируются выражениями сленга, которые известны лишь членам данной группы и действительно представляют барьер для непосвященных. Люди, которые выделяются самим фактом ношения мундира, смогут сразу же и безошибочно определить, принадлежит ли их собеседник, пусть даже одетый в точно такой же мундир, к избранному братскому кругу. Эти различные стили общения и даже наборы слов, в полной мере развились во время наполеоновских войн 1793–1815 гг., и развились тем сильнее, чем дольше длились военные действия. Во времена Нельсона молодые люди в Портсмуте отчаянно жаждали научиться этому языку и завоевать признание тех, кто уже побывал в огне сражений. Угрожающая им опасность была весьма реальной и придавала жизни острый привкус, пронзительное ощущение поспешности. То, чем мы наслаждаемся сегодня, завтра уже может просто не существовать, или завтра может просто не быть нас, чтобы этим наслаждаться. Мы живем гораздо интенсивнее, когда знаем, что нам грозит опасность и когда вспышки пушечных выстрелов видны прямо на горизонте. Именно такая жизнь и началась для Хорнблауэра в «Голубых столбах» в тот бурный день 1794 года.