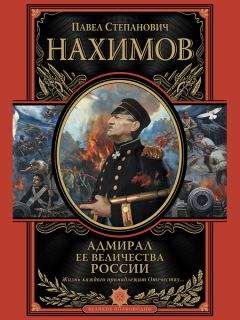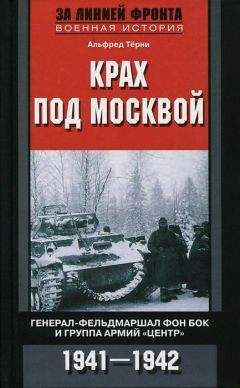Одурачивая германский народ, эта газета ловко пользуется космополитическим ослеплением многих наших товарищей по народу, которые совершенно не способны вникнуть в душу других народов, обладающих чувством национальной гордости. Они судят об иностранцах по самим себе. Добродушные и наивные, но в то же время запутавшиеся и халатные, они упускают всякую возможность заключить политическую сделку или укрепить наши силы. Они не понимают, что всякое проявление слабости способствует продвижению врага и вызывает новые наскоки с его стороны; они не понимают, что при нашем международном положении свобода Германии и сносные условия хозяйственного развития могут быть спасены лишь путем укрепления единства народа и готовности его к жертвам.
Другой социалист – имперский министр д-р Давид – заявил в начале 1919 года: Основной причиной нашего поражения было слабое развитие нашего национально-государственного сознания. Это очень верно. Еще за много лет до этого мой итальянский друг адмирал Беттоло сказал мне: Единственные опасные социалисты – это немцы, поскольку они превращают свою партийную линию в догму, в религию и становятся прежде всего товарищами, а потом уже немцами. У английских же, французских и даже наших итальянских социалистов имеет место обратное. Родившаяся было во мне осенью 1914 года надежда на то, что национально настроенные элементы возьмут верх в социал-демократической партии, вскоре оказалась беспочвенной. Слишком глубоко успела проникнуть пропаганда интернационализма, которая велась марксистами десятки лет, слишком укоренилась в народе ограниченная классовая зависть и немецкая склонность к утопиям. Ряд достойных социал-демократов проявили во время войны здоровый национальный инстинкт. Если бы правительство укрепило его вместо того, чтобы искать милости близоруких или злонамеренных демагогов интернационалистского крыла, то, пройдя школу войны, рабочий класс, возможно, проникся бы германским государственным самосознанием и жил бы теперь так же хорошо, как рабочий класс Англии. Но левые проявили черную неблагодарность по отношению к прусско-германскому государству – лучшему из государств. Государственная мудрость и традиции Фридриха Великого и Бисмарка были сочтены устаревшими по сравнению с воззрениями агитаторов, одни имена которых должны были бы вызывать у немца чувство отвращения, ибо эти двусмысленные личности не только погубили нашу страну, но в награду за это правят ею теперь.
Таким образом, широчайшие круги нашего народа страстно боролись против любви к истине тех, кто с самого начала говорил: Что бы мы ни делали и что бы мы ни предлагали врагу, эта война может окончиться либо нашим полным самоутверждением, либо нашим уничтожением.
Поскольку, однако, сами немцы вели борьбу против подобной точки зрения, наши силы ослаблялись изнутри. Когда прошли первые несколько лет войны, враги уже знали, что это противоречие раздирает Германию изнутри. Это придавало им большую уверенность в победе, чем внешнее превосходство сил. Шейдеман неоднократно и энергично отказывался от идеи победы, надеясь, что «товарищи» из враждебных стран последуют его примеру. Он не понимал, что его речи оказывали как раз обратное действие, и своим поведением помогал шовинистам взять верх над друзьями мира во вражеских странах. А как отличны были настоящие аннексионисты из числа наших врагов от тех, кого называли так в Германии.
Установление конкретных целей войны правительством и партиями большинства на деле не помешало бы переговорам о мире с Англией, основанном на соглашении сторон, и даже облегчило бы их. Один только немец не понимал, что разъяснение собственному населению желательности достижения определенных целей войны приводит к снижению требований внешнего врага.
Лишь одно настроение делает непобедимым оружие народа, ведущего борьбу за существование. Оно заключается в словах:
Воцаришься – иль погибнешь,
Раб, униженный во прахе,
Или грозный повелитель,
Жертва или победитель,
Наковальня – или млат.
Вследствие позиции, занятой правительством и лидерами партий, массы совершенно не знали, что подвергавшиеся таким нападкам аннексионисты не представляли никакого иного мнения, кроме этой истины; не зная аннексионистов, они видели в них чудовищ и осуждали их.
Депутат Кон поучал их:
Война – доход богатым
И смерть – простым солдатам.
Когда о человеке говорили: Он за продление войны, это звучало как ругательство. Гамбетту же его народ превозносил до небес именно потому, что своим даром затягивать войну он обеспечил своему народу более благоприятные условия мира и что особенно важно – спас его честь и уверенность в себе – основу национального благосостояния. Германский народ не понимал, что Англия не хотела мира, основанного на соглашении сторон (как быстро откликнулись бы мы на любое предложение этого рода!), а ждала лишь того момента, когда неразумие наших обманутых масс свергнет «сторонников продления войны» и положит конец сосредоточению сил н напряжению энергии. Целью врагов было, как теперь видят и самые близорукие люди, добиться нашего падения. Англия не видела надобности заключать мир, основанный на соглашении сторон, уже потому, что, учитывая характер нашей политики и находившегося под ее влиянием руководства войной, она могла получить такой мир в любой момент. Англия желала большего. Поэтому для каждого настоящего немца самая затяжная борьба с минимальными шансами на успех была предпочтительнее подчинения ее уничтожающему приговору без крайней на то необходимости. Такое подчинение было прямой изменой народу.
Я, разумеется, не забываю ни на миг о тех ударах, которым подверглись нервы германского народа в результате голодной блокады. Не следует недооценивать физического и духовного воздействия этого самого жестокого из орудий войны, инициатором применения которого в современной войне явилась Англия; это воздействие в значительной мере оправдывает снижение сопротивляемости народа.
Тем более важной для руководителей нации и вообще для всех дальновидных политиков, становилась задача трезвой оценки последствий блокады н применения всех средств для поддержания и правильного направления готовности к борьбе. Однако там, где нет воли к победе, естественно ослабевает и необходимая для достижения ее сила.
Мой так называемый «аннекснонизм» заключался в пессимистическом и, к сожалению, подтвержденном историей взгляде на наше политико-экономическое будущее. Я не мог удовлетвориться утешительными надеждами на справедливый мир и Лигу Наций, как делали это многие сограждане интернационально-капиталистического и социалистического толка. Я спрашивал себя: как закончить войну таким образом, чтобы германскому народу было обеспечено при его трудном географическом положении равноправие с другими державами, обладающими естественным мировым значением. Наше положение мировой державы потеряло бы свою искусственность лишь в том случае, если бы мы достигли в срединной Европе положения Primus inter pares{192}, в котором большинство европейских народов увидело бы гарантию их собственной полной свободы. Такова была цель, стоявшая перед нами. Пока она не была достигнута, мощь Германии отвечала положению германского народа в мире столь же мало, как в XVIII столетии положение Пруссии отвечало ее действительным силам.