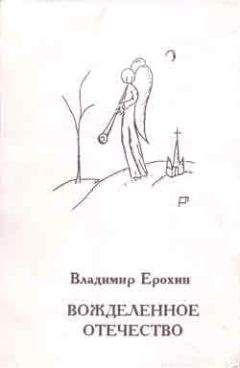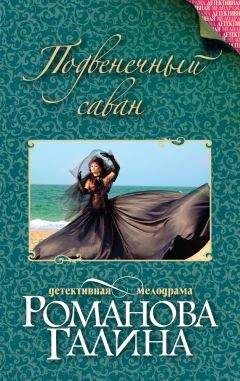«Безнадёжность – вот чем стала для автора Москва, а с ней и вся Россия. И казалось, что желать остаться в ней могли лишь те, кто не может уехать, кто прикован к ней галерной цепью, кто встал в этой ужасной гавани на мёртвый якорь, на прикол». И вот появилась возможность уехать. Автор советовался с отцом А. Менем. Отец Александр был против, но как пастырь мудрый понимал, — чтобы найти свой Путь, надо много дорог исходить. И благословил. И началось нечто подобное эмиграции: Франция, Израиль, Америка. Но и это не спасало. «И пришла тоска ночная (и дневная) – зарубежная». И невозможно было перерезать пуповину, связывающую тебя с твоей срамной матерью: а отец Александр? а тётя Клава? а друзья? а прошлая жизнь?… «А эти», про которых вдруг понял, — «эти, играющие за моей спиной в подкидного дурака, и этот, со странным усердием тренькающий на гитаре, — мой надёжный тыл. Это моя страна и мой народ, несмотря на все пошлости Чернышевского. Забывший Бога народ».
И вдруг ощущение того, что без своей безумной родины тоже трудно дышать, что хоть сто раз уже понято, что России больше нет, но она есть, зовёт, цепляется. Возвращение, странное, немотивированное, никому не объяснимое, и себе тоже. И в день приезда страшная весть – убит отец Александр. Вот почему так болело сердце, жгла подошвы чужая земля.
Вот она та связь (мистическая?) матери со своим чадом! Не спасли, не уберегли, ну хоть проститься!
На этом блуждания по свету не окончились, и поэтому было ещё одно возвращение в Россию. Когда? Ну, конечно же, тогда, в дни путча. Такое же странное, вроде бы опять немотивированное, но абсолютно естественное.
Те же узы кровной близости со своим народом. С каким? Да все с тем же, что играет в подкидного дурака, тренькает на гитаре, забывает Бога. Но есть твой тыл. И опять чувство, что что-то дорогое в опасности, что что-то случилось, чувство, на которое откликаются лучшие и которым пользуются худшие.
Мне жаль тех, кто не видел Москвы в эти дни. Странное, необычное освещение, единение людей. Зло ушло. Это была Пасха, Воскресение, все любили друг друга, все были вместе у Белого Дома, только что народившиеся предприниматели на огромных подносах разносили бутерброды. Преломить хлеб… Воспользовались худшие.
В книге нет слов о любви к родине, но слова-то не всегда и нужны. Вот первая сладость любви к едва познаваемому миру, любви, которая никогда из этого сердца не уйдёт: «Я уловил Россию в камнях булыжной мостовой Тамбова, по которым гулко прокатывала телега с молочными бидонами». И точка.
«Живое живописное начало древесины встречало меня в скрипке, кисти, подоконниках и крашеных полах». И точка.
«Бытийственность. Я оценил её в Лианозове, где горела печь, и дуб заглядывал в окна корявыми ветками».
Но не только это. Автор – тамбовец, и горечь рассказов о гибели тысяч и тысяч таких же тамбовцев проникала в детское сердце, полное любви к своему краю. Танки, самолёты, дальнобойные пушки с ипритом… По своему народу. «Погибли все. Думали никто не вспомнит. Над Россиею небо синее. Наша армия в поход далёкий шла. Кони сытые бьют копытами. И некому будет отомстить».
Но похоронить в памяти нельзя ничего. Там все, как в Колымской мерзлоте, живо, мертво, но живо.
А я? Живя на Украине, я выросла на рассказах (тайных!) о голодоморе. Слово-то какое страшное! Там тогда уничтожали народ таким способом. И все во имя чего? Ах, да! Счастья!
Сколько у меня воспоминаний про то время!
А ещё в этой книге о репрессиях в виде снов: старые фотографии, лагеря, допросы, пожилой мужчина кормит лошадей виноградом… Это Будённый, и сладкое танго тех жутких лет: «не забывай о юности беспечной…». О какой бесконечной юности пело танго? Все, все вместе: забрызганная непросыхающей кровью стенка, свежая трава с пятнами крови, Будённый с лошадью и виноградом, которым в те годы некого было кормить, как только его лошадь, танго. Ну что делать, ну, так оно было.
А я? Есть огромная картина В. Ефанова «Незабываемая встреча», вся правительственная шайка в сборе на встрече с женщинами, жёнами капитанов индустрии, чьих мужей через короткое время уничтожат. Берегу репродукцию, потому что на ней подруга мамы, жена Манаенко, директора металлургического гиганта на Украине. Скоро, скоро их не станет. У каждого свои воспоминания о репрессиях.
За плечами война. Так же лаконично, ёмко о войне, которая прошлась и по этой семье.
Отец, юный, чуть больше 20 лет тяжко ранен, и если бы не ординарец – грузин, который вплавь дотянул его до берега и на плечах отнёс в медсанчасть, погиб бы.
Вот вам тут все: и война, и дружба народов, не крикливая, не навязанная, вся в декадах от искусства, а просто человеческая любовь, боль за другого, за каждого, за русского, еврея, татарина, грузина.
И девушка в родном городе, отвергшая многих, и выбравшая этого больного и слабого и всю жизнь подпиравшая его плечом. И такая щемящая сыновья боль и любовь в словах об отце. «Когда отец напряжённо думал, мучительно билась жилка на правом виске, чуть пониже осколочного ранения, и этот комок умной плоти, рождавшей мысль, повреждённой войной, а потому обречённой на приливы боли, бледно-розовой, чуть прикрытой прядью поседевших волос, трепетной, был живым укором легкомыслию моей жизни».
«Я часто думаю о том, какую роль играет в моей жизни боль. Возможно мои мигрени – стигматы (безусловная, хотя незримая реальность)».
«Отец редко не болел. Это были самые счастливые минуты».
«Смерть и боль – архангелы войны».
О миллионы, погибшие за что? За эту нашу жизнь! А наши военнопленные. Военнопленные, брошенные на произвол судьбы, голодные, убежавшие из плена, погибшие после фашистских в наших застенках как предатели. Как же нам не думать, что делать и кто виноват? А «в израильской армии пленному приказано выжить» и вернуться в жизнь, в страну, в семью.
Но уже мини-погром у синагоги в один из еврейских праздников и очень впечатляющей рассказ автора об этом.
Ну и, естественно, размышления интеллигентного человека об антисемитизме всяком, нашем, — бытовом и государственном.
О бытовом антисемитизме что говорить, тут все ясно, как же без него?
«Если б не было жидов, был бы Сталин жив-здоров».
«Если в кране нет воды – значит выпили жиды».
«Что вы! Не может быть, вы совершенно не похожи на еврея(ку)». Это мы знаем.
В редакции потребовали вычеркнуть, что отец Брежнева прятал евреев от погромов. Редактор строго спросил:
— Я надеюсь, вы русский человек?
Автору было непонятно, почему русский человек должен ненавидеть евреев. Все требует осмысления.