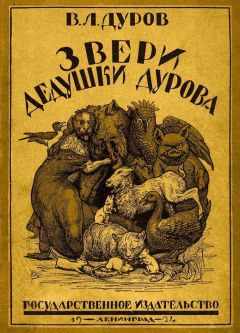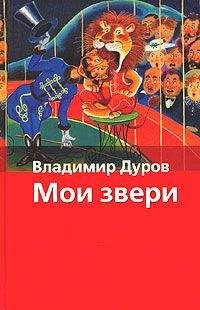Ознакомительная версия.
Я встала с Алкида, наклонилась к земле и рассматривала дорогу: на ней видны были недавние следы колес и копыт конских, я опять села на седло, но Алкид, казалось, был недоволен этим: он не трогался с места и оборотил круто свою голову ко мне… Я тотчас встала опять и повела его в поводу; он пошел, наклоняя морду до земли и стараясь захватить траву, которая только что начала показываться. Бедный конь устал и проголодался!
Наконец нетерпение кончить скорее странный и неприятный вояж свой взяло верх над желанием дать отдых Алкиду; я села на него и, не спуская глаз с дороги, поехала рысью. Скоро я услышала глухой лай собаки! Даже Алкид мой обрадовался при этом сигнале близкого окончания нашего ночного плутания, он вздрогнул и пошел в галоп; я не удерживала. Чрез полчаса что-то зачернелось вдали, как будто густая темная туча лежала на земле.
Близясь с каждою минутою более к черной массе, я увидела ее наконец обратившуюся сперва в лес, потом в стоги сена, а наконец в ряды домов, похожих на раздавленную черепаху, маленьких, почерневших, с оборванными соломенными крышами. «Худая стоянка лучше доброго похода!» – пословица всех старых солдат сейчас пришла мне на мысль, как только я почувствовала, что вид этих закоптелых развалин обрадовал меня не меньше, как и моего Алкида. В деревне все было погружено в глубокое усыпление, даже собаки лаяли нехотя, изредка и каким-то сонным голосом. Туго сплетенный конец ременного повода опять стучит в слюду окна, и я уже ожидала обычного и неизбежного чого тоби? однако ж на этот раз меня спросили по-польски: «Kto taki?…»[29]. Я отвечала: «Коннополец». – «A kolego!.. Jak się masz? Cóż to na kresach?..»[30] – «Нет, не на кресах; так вздумалось Батовскому послать; на глаза попался! Скажи, пожалуйста, где квартира поручика?» – «Какого поручика?» – «Ну, вашего, Бо-ва». – «Он квартирует не здесь!» – «Да это настоящее заколдованье! Недостает только, чтоб это село было Гудишки и чтоб офицер был не здесь, а около версты отсюда в Гудишках!» – «Да так точно и есть, – отвечал улан. – Это село называется Гудишки; в версте отсюда другое, тоже Гудишки; и там квартирует Бо-в. Когда ты так хорошо это знаешь, на что ж расспрашиваешь?»
Голова у меня шла кругом!.. Уж не сделалось ли какое преобразование в эту ночь во всем, что было построено на шаре земном! Кто мне поручится, что к рассвету я не увижу всю поверхность нашего полушария, усеянную Гудишками, и ничем более, как Гудишками! Что это значит? Не из земли ль они возникли в эту ночь? Алкид бил копытом в землю и оборачивал голову ко мне то направо, то налево. Ах, бедный конь! бедный конь!.. А ведь еще надобно ехать! «Ты точно уверен, товарищ, что не более версты до квартиры Бо-ва?» – «Я думаю, и версты не будет; это тотчас за селом, как выедешь».
Я погладила моего Алкида. Нечего делать, мой добрый конь, уж эту версту проедем, а там и на покой. Я поехала рысью и точно увидела что-то чернеющееся недалеко от села. В полной уверенности, что это наконец квартира офицера, к которому записка, я поехала самою большею рысью и приехала к густому лесу… Я встала с лошади, решась идти пешком всю дорогу, сколько ее еще подготовит мне насмешливый случай. Мне чуть не до слез было жаль моего Алкида!
Я вступила в темный лес; дорога шла широкая и многоезженая, заплутаться нельзя! Алкид беспрестанно наклонял голову, искал травы; но тут ее не было. Между тем начало светать; я увидела, что лес очень редок и невелик. При выходе из него дорога разделялась надвое и пошла в разные стороны. При помощи рассвета можно было усмотреть впереди две деревни; я пошла наудачу направо, в полчаса дошла до ней и в первой избе имела удовольствие еще раз услышать, что деревня эта – Гудишки; но что офицер квартирует не здесь, а с полверсты отсюда, в других Гудишках! Очень рада! Но пусть проклятие ляжет на все Гудишки, сколько у вас их есть, а я далее не поеду!
Я отвела моего Алкида в корчму, расседлала, подостлала ему соломы, положила сена, накормила хлебом с солью, укрыла своей шинелью; чрез четверть часа напоила водою, смешанною с овсяною мукою, и, оставя его под надзором жидовского работника; понесла записку пешком в деревню к Бо-ву, потому что она точно была не более полуверсты от места, где я оставила отдыхать мою лошадь.
«Почему это глупец Батовский не прислал этой записки вчера? – спрашивал меня Бо-в, проворно вскакивая с постели (он только что проснулся). – Здесь написано, чтоб я прибыл в эскадронную квартиру с моим взводом в четыре часа утра! Когда получена у вас эта записка?» – «Вчера вечером и тотчас отправлена к вам. Тут никто не виноват, кроме странного случая: я всю ночь ездил из Гудишек в Гудишки!» – «Тут никто не виноват, кроме дурака твоего унтер-офицера! Разве он не мог дать тебе проводника?..» Между тем Бо-в поспешно одевался и приказал седлать лошадей. Попрося у него позволения удалиться, я пошла скорыми шагами обратно в деревню, где оставался мой Алкид. Он спал очень покойно на своей соломенной постели.
Оставя его покоиться, я взошла в корчму. Там, за перегородкою, раздавалось жалобное завывание евреев, молившихся Богу; за столом сидело уже несколько потомков Валленрода; перед ними стояла кварта водки и лежало несколько обаранок. При входе моем они было с робостию поднялись с своих мест, говоря: «Dobry den panu Żołnierzowi…» Но, взглянув на меня, уселись опять очень покойно, сказав мне довольно фамильярно: «Siadaj, moskaliu молодый, с нами!.. Chcesz wodku?»[31] – «Нет, друзья, благодарю; пейте сами».
Я села на стул и не знала, как сладить со сном, который смыкал глаза мои. Один из литвинов вынул гадкую табакерку из бересты, отворил ее и с услаждением начал нюхать табак, который, без сомнения, был еще хуже того куска березовой коры, в котором хранился. Я слышала, что табак прогоняет сон. «Можно мне взять немного?» – спросила я, подойдя к столу и протягивая руку к табакерке; но мне не было уже надобности в ней; довольно приблизиться к той отвратительной пыли, которою она была наполнена, чтоб чихнуть ровно двадцать раз и чтоб прошел сон не только от усталости, но даже если б наслан был очарованием.
Набожное вытье за перегородкою утихло. Арендатор – сухой, длинный жид с плутовскою физиономиею, но вместе умною и насмешливою. Он спросил меня, не прикажу ли я сварить для меня кофе? «Моя жена, – говорил он, – делает его превосходно!» Я хоть не любила кофе, потому что дома никогда мне не давали его, однако ж согласилась на предложение еврея.
Пока Сора и Рифка (Сарра и Руфь) хлопотали и суетились подкрашивать кофе, чтоб был темен (без крепости, однако ж, приличной этому цвету), пока искусно подбалтывали муки в молоко, чтоб дать ему вид густых сливок, еврей подсел ко мне разговаривать: «Вы, конечно, дворянин?» – «А что?» – «Это видно по всему». – «Можно ошибиться; но оставим это. Для тебя, я думаю, все равно, кто б я ни был, а вот скажи мне лучше, кому принадлежат эти деревни? – Я указала рукою в окно, из которого видно было большое пространство плоской, болотистой земли, с частыми низенькими перелесками и кустарниками, а между ними множество небольших сел, или весок, как их называют в Польше. – Одного они помещика или разных?» – «А! Это вы спрашиваете о двенадцати Гудишках? Они все принадлежат одному пану Шамбеляну, короны польской графу Торле». – «Но зачем же всем им дано одно название?» – «Не могу вам рассказать хорошо, отчего именно, потому что и сам худо знаю об этом. Носится какое-то предание, что еще во время Литвы граф этот переселился к нам откуда-то, кажется, из Польши. Он был очень богат, имел большую семью и много людей; в числе прислуги его был мальчик лет одиннадцати, чудесной красоты, но самого дьявольского свойства: детские шалости его носили на себе резкий отпечаток злодеяний. Я знаю многие из них, но не хочу оскорблять вашей чувствительности этим рассказом; довольно вам знать, что мальчик этот имел способность совершенно натуральную подражать крику всякого животного, всякой птицы и всякому звуку, как-то: шелесту листьев, журчанию воды, шуму каскада, разбитому стеклу, одним словом, всему, что только дает голос свой в природе… Но всего лучше копировал он гул колокола погребального! Настоящий звук не производил такого замирания сердца, как гудение этого зловещего голоса! За это страшное преимущество все семейство графа называло его Гудишек; иногда присоединяли к этому название грабовый, но после отменили, и при нем осталось только первое. Тут я уже теряю нить происшествий. Известно только то, что у графа было одиннадцать дочерей, что Гудишек этот вырос, был очень хорош собою и был одним из величайших злодеев; что семейство графа погибло каким-то сверхъестественным образом в одну ночь; что граф был свидетелем ужасов, от которых сошел с ума, но жил, однако ж, долго и пришел в рассудок за один час только до кончины. Говорят, будто бы он просил наследника, племянника своего, тоже графа М-го, чтоб он дал другое название всем Гудишкам; но, видно, воля его не была уважена, потому что они и теперь так называются… Но какую связь имеет это наименование деревень с тем, которое дано было злому мальчишке, об этом нет даже ни малейшего намека в рассказах народных, хотя очевидно, что они должны быть тесно связаны между собою каким-нибудь необыкновенным случаем… Надобно думать, что тайна эта слишком ужасна и мало делает чести фамилии, к которой относится, когда употреблены такие успешные меры, чтоб скрыть ее совершенно». – «И нет никаких догадок?» – «Никаких».
Ознакомительная версия.