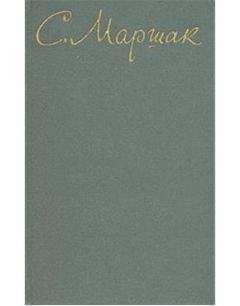И вдруг нас останавливает меткий и точный образ:
Я сплю, ворочаюсь спросонок
В ячейках городских квартир.
Мой кот, как, радиоприемник,
Зеленым глазом ловит мир.[54]
А как поэтично изображено стекло аэропорта, который автор противопоставляет старым тяжеловесным зданиям Нью-Йорка:
Вместо каменных истуканов
Стынет стакан синевы —
без стакана.[55]
Или:
…в аквариумном стекле
Небо,
приваренное к земле.[56]
Остро и до наглядности убедительно переданы ощущения поэта, когда американские «стукачи» — агенты ФБР снимают его своими фотоаппаратами врасплох, сквозь щелку, за разговором с пришедшей к нему гостьей, за едой и питьем,
17 объективов щелкали,
17 раз в дверную щелку
Я вылетал, как домовой,
Сквозь линзу — книзу головой!..[57]
В поэзию наших молодых вполне законно и естественно врывается много современных понятий, научных и технических терминов.
Особенно это заметно у Вознесенского. Он как бы любуется звучанием слов «парабола», «витраж», «дюралевый», «неон», «реторта», «аквариумный», «аккредитованный» и т. д.
Встречаются у него строфы, чуть ли не наполовину состоящие из слов иностранного происхождения,
Брезжат дюралевые витражи…[58]
Поневоле вспоминаешь чеховскую героиню с ее пристрастием к иностранным словам вроде «атмосферы».[59]
Правда, современный язык не может обойтись без вошедших в нашу речь новейших терминов, из которых многие стали интернациональными.
В свое время и Пушкин смело вводил в русскую поэзию — к ужасу Шишкова и «Любителей русской словесности»[60] — новые слова, заимствованные из иностранных языков и уже вошедшие в русскую разговорную речь.
Но панталоны, фрак, жилет —
Всех этих слов по-русски нет.[61]
Однако Пушкин никогда не щеголял модернизмами. Они были ему так же чужды, как и хвостовские архаизмы.
Времена менялись, менялся и ломался быт, и в русскую поэзию от Некрасова до Блока и Маяковского то и дело входили новые слова русского и нерусского происхождения. И все же — в лучших своих образцах — она сохраняла чистоту языка, не позволяла новым словообразованиям замутить — из щегольства или из стремления к новизне — русскую речь, драгоценное наследие веков.
Да и Вознесенскому такое щегольство свойственно далеко не всегда.
Мы знаем его как поэта, одаренного подлинным чувством русского языка и русской культуры.
Вспомним его поэму «Мастера» — о строителях храма Василия Блаженного.
Стихи о древнем мастерстве далеки у него от эстетского любования стариной, от стилизации, в которую впадали многие, оглядываясь на прошлое.
Его старинные русские мастера — товарищи современных строителей, возводящих наши новые города. Василий Блаженный стоит у него рядом с новейшими стеклянно-металлическими конструкциями нынешнего и завтрашнего дня.
Он умеет отличать достойную уважения старину от доживающих свой век и давно уже переживших себя остатков прошлого.
С тонким мастерством и богатством словесных оттенков написан им портрет молодого парня — служки Загорской лавры.
Сопя носами сизыми
И подоткнувши рясы,
Кто смотрит телевизоры,
Кто просто точит лясы.
Я рядом с бледным служкою
Сижу и тоже слушаю
Про денежки, про ладанки
И про родню на Ладоге…
Я говорю: — Эх! парень,
Тебе б дрова рубить,
На мотоцикле шпарить,
Девчат любить.
Тебе б не четки
И не клобук, —
Тебе б чечеткой
Дробить каблук.
Эх, вприсядку,
Чтоб пятки в небеса!
Уж больно девки падки
На синие глаза.
Он говорит: — Вестимо… —
И прячет, словно вор,
Свой нестерпимо-синий,
Свои нестеровский взор.
И быстрою походкой
Уходит за решетку.
Мол, дружба — дружбой,
А служба — службой.
И колокол по парню
Гудит окрест.
Крест — на решетке.
На жизни —
Крест.[62]
Здесь Вознесенский нашел точные, веские, незаменимые слова. Созвучия, которыми он играет, органичны и убедительны. Не случайно рифмуются «клобук» и «каблук», «четки» с «чечеткой». Точно так же полны значения аллитерации в поэме «Мастера»:
«Ваятели» — «Воители», «Кисти» — «Кистени».
Созвучия как бы облекают в плоть и подтверждают поэтическую мысль автора. Пользуясь аллитерациями, поэт как бы вскрывает самую структуру языка, в котором созвучия далеко не случайны. То, что близко по смыслу, близко и по звучанию: гром, гроза, грохот. А иные созвучия — иронические — подчеркивают противоположность понятий. Нельзя было сильнее скомпрометировать слово «либерал», чем это сделал Денис Давыдов злою рифмой «обирало» — «либерала».[63]
Такое опорочение, передразниванье слова смешным созвучием бывает не только в сатирической поэзии и в народном лубке. Им часто пользуется народ в разговорной речи.
У Андрея Вознесенского московские дьяки, издеваясь над вдохновенным и дерзким трудом строителей храма Василия Блаженного, прыскают в ладони: «Не храм, а срам!..»
Но как часто встречаешь у Вознесенского случайные, очень неглубокие созвучания — «купе» и «купаться», «анонимки» и «анемоны».
Конечно, нельзя да и не к чему накладывать запрет на такие мало значащие, модернистические аллитерации. Но совершенно очевидно, что именно эта легкая, поверхностная игра звуками порою заводит поэта — по его же собственному выражению — «куда-то не туда».
Слишком кудрявая, как бы зацветшая образами и созвучиями речь ведет к тому, о чем так гневно сказал когда-то Лев Толстой, получив письмо со стихами:
«Писать стихи — это все равно, что пахать и за сохой танцевать…»[64]
Особенно много случайных рифм и аллитераций в цикле стихотворений Вознесенского «Треугольная груша».
«Алкоголики» — «глаголешь», «прибитых» — «прибытие», «небесных ворот» — «аэропорт».
Неизвестно, какое из слов в каждой из этих пар вызвало другое, созвучное ему: «прибитые» — «прибытие» или наоборот.
Вполне реалистично и убедительно сравнение аэропорта с «небесными воротами». Но в «Архитектурном отступлении» Вознесенского аэропорт — не просто ворота, а некий «апостол небесных ворот» (кроме того, что он еще и «автопортрет» поэта и «реторта неона»). А это настраивает автора на какой-то библейский, чуть ли не апокалиптический лад. Отсюда и алкоголики-ангелы, которым аэропорт нечто «глаголет», возвещая некое «Прибытие». Речь здесь идет о прибытии самолетов, но рядом с глаголом «возвещая» — да еще и с большой буквы — это слово звучит почти мистически.