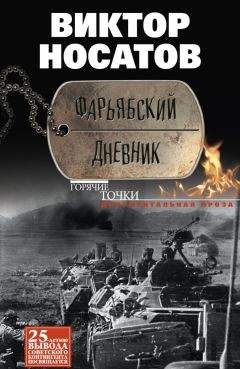Ознакомительная версия.
Гость, соглашаясь со мной, кивнул головой, но в глазах его по-прежнему стояла неприкрытая горечь.
– Сахиб, – после небольшой паузы, обратился я к афганцу, – я все хочу тебя спросить о твоем пакистанском друге.
– Об Исламе? – Сахиб встрепенулся, в глазах его вновь появился задорный блеск. – С тех пор, как мы с ним трудились на одной из Кабульских фабрик, прошло много лет. После Апрельской революции он вместе с нашей рабочей дружиной участвовал в установлении народной власти в кабульских пригородах. В одной из стычек с душманами был ранен. Пока он лежал в госпитале, наш отряд перебросили в провинцию, потом меня направили в Союз на учебу. Что стало с Исламом, я могу лишь догадываться. По всей видимости, он, узнав о военном перевороте в Пакистане, ушел туда. Он просто не смог бы жить здесь, зная, что родина в опасности. Вернувшись в Кабул, я всячески старался навести о нем справки. Но напрасно встречал караваны, опрашивал кочевников об Исламе, о нем не было ни слуху, ни духу. – Сахиб замолчал, перебирая янтарные камешки четок.
– Не мог же он так просто пропасть. А ты не пробовал писать в Пешавар, на родину твоего друга?
– Пробовал и не раз, но никакого ответа оттуда так и не получил.
– Неужели он бесследно исчез, а может быть, его убили, ведь, насколько я представляю его по твоим рассказам, Ислам и такие, как он, явно не по душе существующему в Пакистане режиму.
Сахиб неопределенно покачал головой и, вытащив из внутреннего кармана офицерского френча сложенный в несколько раз газетный лист, протянул его мне. Я осторожно, боясь разорвать протертые на сгибах листы, развернул газету. Строчки затейливой арабской вязи, группировавшиеся в столбцы, да нечеткие фотографии размещались на шероховатом листе пожелтевшей бумаги. Я недоуменно взглянул на Сахиба, не пытаясь разобраться в арабской азбуке.
– Газету эту я нашел на Хайберском перевале, через который проходит дорога, ведущая из Пешавара в Кабул. Газета пакистанская. Видишь, групповая фотография? – Я утвердительно кивнул головой. Сахиб показал на стоящего в центре фотографии мужчину. – Он очень похож на Ислама.
– А что написано под фотографией?
– Написано, что пакистанской жандармерией разыскивается мятежник Ислам из племени Африди, который с группой сообщников ходит по кочевьям и мутит народ. – Это похоже на него, – продолжал Сахиб, бережно пряча в карман свою дорогую находку. – Ну что ж, мне пора, – заключил он, вставая.
Крепко обнявшись, мы распрощались.
Через несколько дней прибыли долгожданные вертушки.
С грустью попрощавшись со своими боевыми друзьями, мы быстро заняли свои места, и через несколько минут винтокрылые птицы, сделав последний прощальный круг над Маймене, начали набирать высоту. Из иллюминаторов виднелись коричневые соты глинобитных домишек, зеленые купола мечетей и высокие шпили минаретов. В последний раз окинув взглядом эти афганские достопримечательности, я мысленно уже навсегда попрощался с политой потом и кровью афганской землей, со своим афганским другом Сахибом.
– Прощай, Сахиб! Я верю, что рано или поздно ты исполнишь свою давнюю мечту, сбросишь надоевшую форму и отведешь свою душу, продолжая дело отцов и дедов, станешь непревзойденным хлеборобом.
Старшина Александр Трудненко возвращался с войны домой. Это он знал, что возвращался с войны. Разве мог он, потеряв шестерых своих товарищей убитыми и двадцать трех ранеными, поверить газетным передовицам, которые вещали на весь мир о том, что в Афганистане всего-навсего изредка вспыхивают конфликты между сторонниками правительства и противниками нового режима. Ведь он прекрасно понимал, что конфликт может продолжаться неделю, ну максимум месяц, а длится уже полтора года. И все эти полтора года, с самого начала заварухи, старшина Трудненко размышлял над тем, что говорилось, и тем, что делалось. Да, когда он узнал, что едет в Афганистан, чтобы оказать интернациональную помощь революционному народу, сердце его учащенно забилось.
Жажда подвига, именно боевого подвига воспитывалась в нем не сегодня и не вчера. Эту жажду он впитывал с молоком матери, которая всегда с гордостью рассказывала о его героическом деде, ее отце. Дед Семен с первого до последнего дня войны был в самой гуще боевых событий, трижды ранен, награжден многими боевыми орденами. Уже немного повзрослев, он внимательно слушал, как дед с пафосом повествовал о войне, атаках и рейдах, штурмах и победных шествиях. Он видел фильмы, в которых доблестные советские войска гнали и гнали врага со своей земли. Тогда у него еще не зарождалось сомнение: ведь все время гнали со своей земли, а когда же успели пустить? Об этом не любил рассказывать дед, умалчивал учитель истории и совсем не информировало героическое военное кино.
Это Александр начал понимать позже, уже здесь, на искореженной войной афганской земле. А тогда у него учащенно забилось сердце, он ощутил какой-то неведомый волнующий холодок. То оружие, которое когда-то держал в руках, командуя отрядом в школьной игре «Зарница» и потом во Всесоюзной игре «Орленок», он мог применить в настоящем бою. В настоящем бою мог показать все то, на что его настраивала героическая семья, чему учила школа. Чего-чего, а военного патриотизма у него было тогда хоть отбавляй. Да и не только у него. В роте, кроме двух офицеров, отказчиков не было да и быть не могло. Они с особым презрением смотрели на этих отказчиков, а тех почему-то эти взоры не очень-то и смущали. Скорее наоборот, эти два офицера смотрели на интернационалистов как-то снисходительно, жалели, что ли, их. Удивительно, но Александр, встретившись со взглядом старшего лейтенанта, который уже лет шесть командовал взводом из-за неладов с начальством и который надолго, если не навсегда, зарезал себе карьеру, отказавшись ехать в Афганистан, почувствовал вдруг, что в армии нельзя мерить всех на один аршин. Старлей знал что-то очень важное, но не мог об этом сказать. Об этом говорили его глаза. Они светились правотой и бессильным гневом на тех, кто не давал ему возможности эту правоту высказать своим подчиненным, чтобы предостеречь их от опрометчивого шага. Хотя ему бы никто не поверил. Объявили бы трусом, изменником и даже врагом народа, который не возжелал оказать военную помощь дружественной стране.
Уже потом, в Афганистане, Александр по солдатскому телеграфу узнал, что их бывшего командира уволили из армии. Сначала сделали психом, а затем уволили. Против этой войны могли выступать только психи – так ответил на вопрос солдат замполит их батальона. Но это было потом, много позже, а тогда, услышав горячащие молодую кровь слова – долг, присяга, интернациональная помощь и боевые традиции отцов и дедов, Александр почувствовал легкое головокружение, словно от глотка шампанского. Он подумал, как после первого своего боя где-нибудь на приступке окопа напишет письмо к своей Иринке. Напишет просто о том, что свистели пули и что от стрельбы раскалился автомат. Он представил, как вздрогнут ресницы Иринки, когда она прочтет эти строки, как забьется ее сердечко под тонким цветастым ситцем платьишка, как удивлением и неприкрытой болью замутятся ее глаза.
Ознакомительная версия.