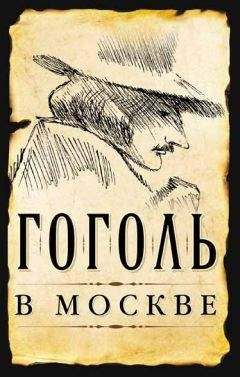Зная по опыту, как причащение раньше успокаивало Гоголя во время его уныния, гр. А. П. Толстой присоветовал ему причаститься скорее, не продолжая приготовительного говения. Поговорив с духовником, по-видимому вовсе не понимавшим его, Гоголь причастился в церкви, находящейся далеко от его дома (на Девичьем Поле). Это было в четверг на масленице (7 февр.). Однако ж и причащение его не успокоило. Он не хотел в этот день ничего есть, и когда после съел просфору, то назвал себя обжорою, окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно. Вообще, болезненное изнеможение тела еще более служило к мрачному настроению духа.
Степан Петрович Шевырев. Из письма М. Н. Синельниковой:
В тот самый день, как приобщился он Святых Тайн, я был у него и со слезами, на коленях, молил его принять пищу, которая могла бы подкрепить его, но он как будто оскорбился такою просьбою, уверял меня, что ест весьма довольно.
Алексей Терентьевич Тарасенков:
В один из последующих дней он поехал на извозчике в Преображенскую больницу, подъехал к воротам, слез с санок, долго ходил взад и вперед у ворот, потом отошел от них, долгое время оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и, наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой. В Преображенской больнице находился один больной, признанный за помешанного; его весьма многие навещали, приносили ему подарки, испрашивали советов в трудных обстоятельствах жизни, берегли его письменные замечания и проч. Некоторые радовались, если он входил с ними в разговор; другие стыдились признаться, что у него были… Зачем ездил Гоголь в Преображенскую больницу – Бог весть. Вероятно, были с ним и другие приключения, которые остались неизвестными, как и вообще многое сокрыто из его жизни.
Такие необыкновенные поступки его хотя и бывали с ним прежде, однако же теперь были так продолжительны, что поразили графа; он уговорил его посоветоваться с врачом, для чего и призван был его давнишний знакомый доктор Иноземцев, который нашел, что у него катар кишок, советовал ему спиртные натирания живота, лавровишневую воду и ревенные пилюли по случаю долго продолжавшегося запора. Не веря вообще медицине и медикам, он не воспользовался и его советами, хотя чувствовал уже себя весьма дурно и перестал принимать к себе знакомых, которым прежде никогда не отказывал.
Во всю масленицу после вечерней дремоты в креслах, оставаясь один, по ночам, при всеобщей тишине, он вставал и проводил долгое время в молитве, со слезами, стоя перед образами. Ночью с пятницы на субботу (8–9 февраля) он, изнеможенный, уснул на диване, без постели, и с ним произошло что-то необыкновенное, загадочное: проснувшись вдруг, послал он за приходским священником, объяснил ему, что он недоволен недавним причащением, и просил тотчас же опять причастить и соборовать его, потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и теперь почитает себя уже умирающим. Священник, видя его на ногах и не заметив в нем ничего опасного, уговорил его оставить это до другого времени. По-видимому, после посещения священника он успокоился, но не прерывал размышлений глубоко его потрясавших. <…>
Духовник навещал Гоголя часто; приходский священник являлся к нему ежедневно. При нем нарочно подавали тут же кушать саго, чернослив и проч. Священник начинал первый и убеждал его есть вместе с ним. Неохотно, немного, но употреблял он эту пищу ежедневно; потом слушал молитвы, читаемые священником. «Какие молитвы вам читать?» – спрашивал он. «Все хорошо; читайте, читайте!» Друзья старались подействовать на него приветом, сердечным расположением, умственным влиянием; но не было лица, которое могло бы взять над ним верх; не было лекарства, которое бы перевернуло его понятие; а у больного не было желания слушать чьи-либо советы; глотать какие-либо лекарства. Так провел он почти всю первую неделю поста.
Михаил Петрович Погодин:
В субботу, на масленице, он посетил также некоторых своих знакомых. Никакой особенной болезни не было в нем заметно, не только опасности; а в задумчивости его, молчаливости не представлялось ничего необыкновенного.
С понедельника только обнаружилось его совершенное изнеможение. Он не мог уже ходить и слег в постель. Призваны были доктора. Он отвергал всякое пособие, ничего не говорил и почти не принимал пищи. Просил только по временам пить и глотал по нескольку капель воды с красным вином. Никакие убеждения не действовали. Так прошла вся первая неделя. В четверг сказал: «Надо меня оставить, я знаю, что должен умереть».
Алексей Терентьевич Тарасенков:
В понедельник и вторник первой недели поста наверху у графа была всенощная; Гоголь едва мог дойти туда, останавливался на ступенях, присаживаясь на стуле, однако стоял всю всенощную и молился. День оставался почти без пищи, ночи проводил он, стоя перед образами в теплой молитве со слезами. Граф, видя, как изнуряет все это Гоголя, прекратил у себя церковное служение.
Сожжение второго тома
«Мертвых душ»
Николай Васильевич Берг:
К сочинению своему он стал относиться в это время еще более подозрительно, только с другой, религиозной стороны. Ему воображалось, что, может быть, там заключается что-нибудь опасное для нравственности читателей, способное их раздражить, расстроить. В этих мыслях, приблизительно за неделю до кончины, он сказал своему хозяину, Толстому: «Я скоро умру; свези, пожалуйста, эту тетрадь к митрополиту Филарету и попроси его прочитать, а потом, согласно его замечаниям, напечатай».
Тут он передал графу довольно большую пачку бумаг, в виде нескольких тетрадей, сложенных вместе и перевязанных шнурком. Это было одиннадцать глав второго тома «Мертвых душ». Толстой, желая откинуть от приятеля всякую мысль о смерти, не принял рукописи и сказал: «Помилуй! ты так здоров, что, может быть, завтра или послезавтра сам свезешь это к Филарету и выслушаешь от него замечания лично».
Гоголь как будто успокоился, но в ту же ночь, часу в третьем, встал с постели, разбудил своего Семена и велел затопить печь. Семен отвечал, что надо прежде открыть трубу наверху, во втором этаже, где все спят: перебудишь! «Поди туда босиком и открой так, чтобы никого не будить!» – сказал Гоголь. Семен отправился и действительно открыл трубу так осторожно, что никто не слыхал, и, воротясь, затопил печь. Когда дрова разгорелись, Гоголь велел Семену бросить в огонь ту связку бумаг; которую утром отдавал Толстому. Семен говорил нам после, будто бы он умолял барина на коленях не делать этого, но ничто не помогло: связка была брошена, но никак не загоралась. Обгорели только углы, а середина была цела. Тогда Гоголь достал связку кочергой и, отделив тетрадь от тетради, бросал одну за другой в печь. Так рукопись, плод стольких тягостных усилий и трудов, где, несомненно, были многие прекрасные страницы, сгорела.