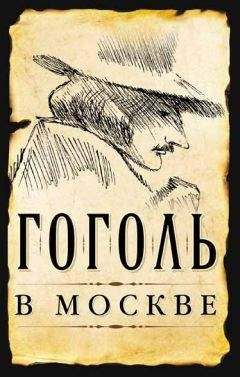Тут он передал графу довольно большую пачку бумаг, в виде нескольких тетрадей, сложенных вместе и перевязанных шнурком. Это было одиннадцать глав второго тома «Мертвых душ». Толстой, желая откинуть от приятеля всякую мысль о смерти, не принял рукописи и сказал: «Помилуй! ты так здоров, что, может быть, завтра или послезавтра сам свезешь это к Филарету и выслушаешь от него замечания лично».
Гоголь как будто успокоился, но в ту же ночь, часу в третьем, встал с постели, разбудил своего Семена и велел затопить печь. Семен отвечал, что надо прежде открыть трубу наверху, во втором этаже, где все спят: перебудишь! «Поди туда босиком и открой так, чтобы никого не будить!» – сказал Гоголь. Семен отправился и действительно открыл трубу так осторожно, что никто не слыхал, и, воротясь, затопил печь. Когда дрова разгорелись, Гоголь велел Семену бросить в огонь ту связку бумаг; которую утром отдавал Толстому. Семен говорил нам после, будто бы он умолял барина на коленях не делать этого, но ничто не помогло: связка была брошена, но никак не загоралась. Обгорели только углы, а середина была цела. Тогда Гоголь достал связку кочергой и, отделив тетрадь от тетради, бросал одну за другой в печь. Так рукопись, плод стольких тягостных усилий и трудов, где, несомненно, были многие прекрасные страницы, сгорела.
Михаил Петрович Погодин:
Из расспросов об участи его сочинений оказалось.
В воскресенье, перед постом, он призвал к себе одного из друзей своих и, как бы готовясь к смерти, поручал ему отдать некоторые свои сочинения в распоряжение духовной особы, им уважаемой, а другие напечатать. Тот старался ободрить его упавший дух и отклонить от него всякую мысль о смерти.
Ночью, на вторник, он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его: тепло ли в другой половине его покоев. «Свежо», – отвечал тот. «Дай мне плащ, пойдем: мне нужно там распорядиться». И он пошел, с свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришед, велел открыть трубу как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: «Барин, что вы это, перестаньте!» – «Не твое дело», – отвечал он молясь. Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал, после того как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтоб легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал. «Иное надо было сжечь, – сказал он, подумав, – а за другое помолились бы за меня Богу; но, Бог даст, выздоровею и все поправлю».
Поутру он сказал гр. Т<олстому>: «Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы «Мертвых душ», которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти».
Алексей Терентьевич Тарасенков:
На этой же неделе (с понедельника на вторник ночью) Николай Васильевич велел своему мальчику раскрыть печную трубу, вынул из шкапа большую кипу писанных тетрадей, положил в печь и зажег их. Мальчик заметил ему: «Зачем вы это делаете? может, они и пригодятся еще». Гоголь его не слушал; и когда почти все сгорело, он долго еще сидел, задумавшись, потом заплакал и велел пригласить к себе графа. Когда тот вошел, он показал ему догорающие листы бумаг и с горестью сказал: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен – вот он к чему меня подвигнул! А я было там много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы; из него могли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях!»
Прежде этого Гоголь делал завещание графу взять все его сочинения и после смерти передать митрополиту Филарету. «Пусть он наложит на них свою руку; что ему покажется ненужным, пусть зачеркивает немилосердно». Теперь, в эту ужасную минуту сожжения, Гоголь выразил другую мысль: «А я думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали что хотели. Теперь все пропало». Граф, желая отстранить от него мрачную мысль о смерти, с равнодушным видом сказал: «Это хороший признак – и прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше; значит, и теперь это не перед смертью». Гоголь при этих словах стал как бы оживляться; граф продолжал: «Ведь вы можете все припомнить?» – «Да, – отвечал Гоголь, положив руку на лоб, – могу, могу: у меня все это в голове». После этого он, по-видимому, сделался покойнее, перестал плакать.
Алексей Терентьевич Тарасенков:
За усиленным напряжением последовало еще большее истощение. С этой несчастной ночи (после сожжения рукописи второго тома «Мертвых душ». – Сост.) он сделался еще слабее, еще мрачнее прежнего: не выходил более из своей комнаты, не изъявлял желания видеть никого, сидел в креслах по целым дням, в халате, протянув ноги на другой стул, перед столом. Сам он почти ни с кем не начинал разговора; отвечал на вопросы других коротко и отрывисто. Напрасно близкие к нему люди старались воспользоваться всем, чем было только возможно, чтоб вывести его из этого положения. По ответам его видно было, что он в полной памяти, но разговаривать не желает. Замечательны слова, которые он сказал А. С. Хомякову, желавшему его утешить: надобно же умирать, а я уже готов, и умру… Когда гр. А. П. Толстой, для рассеяния, начинал с ним говорить о предметах, которые были весьма близки к нему и которые не могли не занимать его прежде (о письме Муханова, общего, близкого знакомого, об образе матери, который затерялся было, да нашелся, и проч.), он возражал с благоговейным изумлением: «Что это вы говорите! Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте!» Потом он молчал, погружался в размышления и тем заставлял графа замолчать. Впрочем, в эти же дни он делал некоторые неважные завещания насчет своего крепостного человека и проч., и рассылал последние карманные деньги бедным и на свечки, так что по смерти у него не осталось ни копейки. (У Шевырева осталось около 2000 р. от вырученных за сочинения денег, прочие пошли на воспитание сестер, на долги матери и в помощь бедным студентам 3000 р., розданные втайне. От наследства матери он уже давно отказался прежде.)
…Давно мне не случалось быть в доме, где жил Гоголь, и я не слыхал ничего о его болезни. В среду на первой неделе поста прислали из этого дома за мною и объяснили, что происходит с Гоголем. Иноземцев отзывался о болезни Гоголя неопределенно и один день предполагал переход ее в тиф, на другой сказал, что Гоголю лучше, однако же запретил ему выезжать. Озабоченный положением больного, хозяин дома желал, чтоб я видел и сказал свое мнение о его болезни. По его рассказам мне пришло на мысль: не нужно ли подумать о том, как бы заставить больного употреблять пищу каким бы то ни было способом? Я передал о нескольких примерах психопатов, мною виденных и исцелившихся после того, как они стали употреблять пищу.