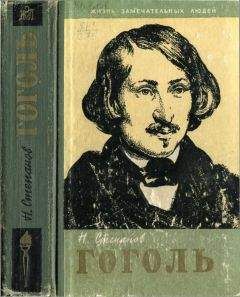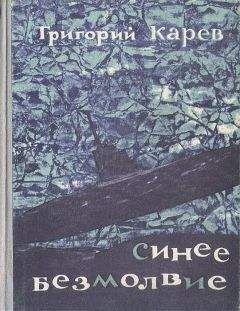«О Париже скажу тебе, — писал Гоголь Н. Языкову, — только то, что я вовсе не видел Парижа. Я и встарь был до него не охотник, а тем паче теперь». Говоря о себе, он сообщает Языкову: «Я прожил, однако ж, эти три недели хорошо в отношении моральном. Жил внутренно, как в монастыре, и, в прибавку к тому, не пропустил ни одной обедни в нашей церкви».
В Париже он, встретился с графом Толстым, с которым познакомился за границей несколько лет тому назад. Александр Петрович Толстой был личностью примечательной. Даже самая биография его во многом необычна. Родился он в 1801 году и восемнадцатилетним юношей поступил на военную службу юнкером в гвардейскую артиллерийскую бригаду. Через два года был произведен в офицеры, а затем назначен адъютантом к графу Дибичу. В конце 1826 года он перешел из военной службы в ведомство иностранных дел и был причислен к штату русского посольства в Париже. Однако он стал не столько дипломатом, сколько секретным агентом и был отправлен в Константинополь со специальным поручением ознакомиться с положением дел в Турции и на Ближнем Востоке и произвести там топографическую съемку укрепленных мест. После начала войны с Турцией в 1828 году он вновь вернулся на военную службу и принимал самое активное участие во всех военных операциях. По окончании войны вышел в отставку и поступил на службу в министерство внутренних дел. Затем служил губернатором в Твери, а в 1837 году был переведен военным губернатором в Одессу. В 1840 году он вышел в отставку, устранился от всяких дел и погрузился в изучение богословских вопросов и сферу религиозных интересов.
Александр Петрович стал играть все большую и большую роль в жизни писателя. Гоголь внимательно прислушивался к его суждениям и советам. Византийская изощренность графа, его начитанность в священном писании, знакомство с церковными учениями, большой жизненный опыт — все это производило огромное впечатление на Гоголя, видевшего в Толстом столп православия.
Граф встретил Гоголя со свойственной ему приветливостью и непринужденностью. Александр Петрович любил комфорт, всегда был изящно, хотя и не по моде, одет. Его стройная фигура, сохранившая привычку к военной выправке, подчеркнутая благовоспитанность человека высшего круга сочетались с какой-то строгостью и внутренней озабоченностью. Графиня Анна Егоровна, дочь грузинского царевича, была любительницей музыки… Она помешалась на чистоте: в комнатах все блестело, без конца перетиралось, чистилось, мылось. в гостиной стоял рояль, на котором графиня музицировала. Музыка, однако, в доме Толстых была неизменно религиозного содержания. По вечерам к ним являлись русские и греческие монахи и священники. Граф знал греческий язык и любил обсуждать духовные книги или даже просто слушать чтение молитв на греческом языке.
Беседы касались главным образом вопросов религиозно-нравственного характера. Граф сетовал и огорчался безнравственностью современной молодежи, забвением религиозных устоев. Он стал расспрашивать Гоголя о его делах и намерениях.
— О себе ничего не могу сказать вам утешительного, — грустно сообщил Гоголь. — Здоровье мое хуже и хуже. Появляются такие признаки, которые говорят, что пора, наконец, знать честь и, поблагодарив бога за все, уступить, может быть, свое место живущим. Но да будет во всем его святая воля! — покорно, каким-то деревянным голосом произнес Гоголь. — Во всяком случае, не прекращайте ваших молений, сильней и сильней молитесь обо мне богу, чтобы он не оставлял меня ни на минуту!
Граф внимательно выслушал писателя. Его тонкие губы сжались в сочувственном молчании. Он провел Гоголя в гостиную, в которой хозяйничала полная смуглая Анна Егоровна. На столиках, полочках, даже стульях разложены были молитвенники, псалтыри, ноты, сочинения духовных писателей. За столом сидел греческий монах в черном клобуке.
Во время чаепития с душистым приторно сладким вареньем разговор зашел о современном положении вещей в Европе.
— В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, — произнес Гоголь, — что не поможет никакое человеческое средство.
Толстой стал рассказывать о революционных настроениях и даже открытых выступлениях против существующего порядка вещей во Франции и Италии.
Он сурово осуждал совершеннейшую, с его точки зрения, анархию, которая наступит повсеместно, если заранее не будут приняты должные меры. Лишь попечение божие и бдительность правительства могут приостановить начавшийся процесс, печально резюмировал граф.
Гоголь встревоженно внимал этим рассказам. Будущее рисовалось ему в самом черном свете. Европа больна «язвой пролетариатства». В ней несправедливость и раздор. Зреют семена озлобления и мести.
— Лишь России, с ее особой судьбой, миновавшей развращенность Запада, не знающей революций и рабочего вопроса, предназначено служить опорой миру и порядку! — Граф торжественно поднял руку и провозгласил: — Православный государь и православный народ спасут Россию от бед, грозящих Европе. Все мы должны служить небесному государю и его словом руководствоваться. Иначе наступит тьма египетская, помутится ум, и омрачатся мысли, и плохо будет тому, кто об этом не помыслит теперь.
В комнатах Толстых, выходящих окнами на улицу де Ля Пэ, чувствовался едва уловимый запах ладана.
Гоголь внимательно, с душевным испугом слушал Толстого, сжавшись в своем кресле. Греческий монах перебирал янтарные четки, его черные глаза сверкали из-под клобука, горбатый нос напоминал клюв хищной птицы. Расплывшаяся графиня восторженно и умиленно слушала мужа. После чая монах стал читать по-гречески житие Ефрема Сирина, а Александр Петрович тут же переводил Гоголю смысл читаемого, иногда останавливая монаха и давая свои пояснения.
А за окнами шумел Париж. Щелкали бичи кондукторов омнибусов, запряженных четверкою лошадей, шумели студенты в кафе, проходили по бульварам нарядные кокетливые парижанки. Когда Гоголь вышел от Толстых, было уже совершенно темно. Горели газовые фонари. На круглых тумбах и заборах пестрели броские афиши театров. По Сене сновали маленькие лодочки со светящимися фонариками. По улице шла' толпа рабочих в суровом молчании. В руках одного из рабочих развевался трехцветный флаг. Гоголь нанял фиакр и направился в гостиницу. Там в маленькой скромной комнатке с обоями, на которых изображены были кокетливые амурчики с луками, он долго молился перед образком Николая Мирликийского, присланным ему матерью. Но тоска, какое-то тупое отчаяние не проходили. Лишь поздно ночью он, наконец, заснул на узенькой гостиничной кровати. Но и во сне ему казалось, что над ним наклоняется длинная черная тень графа Толстого.