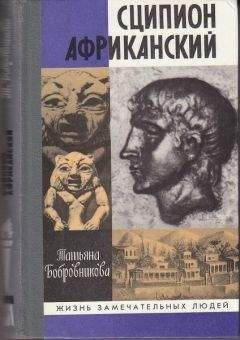Вести об этом удивительном народе дошли до иудеев, живших на окраинах цивилизованного мира. В книге Маккавеев читаем:
«Иуда услышал о славе римлян, что они могущественны и сильны и благосклонно принимают всех, обращающихся к ним, и, кто ни приходил к ним, со всеми заключили они дружбу… С друзьями своими и с доверившимися им они сохраняют дружбу и овладели царствами ближними и дальними, и все, слышавшие имя их, боялись их. Если захотят кому помочь и кого воцарить, те царствуют, а кого хотят, сменяют, и они весьма возвысились. Но при этом никто из них не возлагал на себя венца и не облекался в порфиру, чтобы возвеличиться ею… Не бывает ни зависти, ни ревности между ними» (I, 8, 1, 12–14, 16).
Но вести такую политику было очень трудно. Она требовала постоянного напряжения всех сил. Трудно было брать на себя все тяготы войны, а потом уступать захваченное другим. Трудно было пощадить страшного и упорного врага, которого наконец-то удалось сокрушить. Трудно было всегда находиться в курсе всех событий, ежедневно выслушивать десятки посольств и вникать в их мелочные требования. А самое трудное было — всегда стоять на высоте своей миссии и являться народам и царям некими полубогами, как желал Сципион. При этом цари доставляли меньше хлопот, чем свободные греки. С царями римляне особенно не церемонились. Иное дело эллины. С каждым городом надо было быть любезным и не оскорбить его национального достоинства. А для этого нужен был необыкновенный такт и искусство. Гораздо проще было бы ввести в страну войска, навести там мир и порядок и получить самим большую выгоду.
Но все это осознали позднее. Сейчас весь Рим был в восторге. Победители были щедро вознаграждены. Солдаты получили двойную плату. Люций отпраздновал великолепнейший триумф: в торжественном шествии несли груды золота, серебра и изображения азиатских городов чуть ли не в натуральный размер. После триумфа он попросил разрешения именоваться Азиатским, подобно тому, как его брат называется Африканским.[156] Был только один человек, который не получил ничего от этой сказочной победы. То был сам Сципион — виновник торжества. Ведь он был частным человеком, когда одержана была победа при Магнесии. Издали смотрел он, как через построенные им триумфальные ворота движутся тяжелые аляповатые сооружения Люция. И не только не получил он доли в почете, ему угрожали величайшие опасности и преследования.
Как могло случиться, что спаситель Рима подвергся травле и гонениям?! Для того чтобы объяснить это, надо вернуться далеко назад и рассказать об одном современнике Сципиона.
Тому, что казалось мне нужным,
Ты вовсе не был рад,
И то, что зовешь ты жизнью,
Я называю — разврат.
Р. Киплинг
Человека, которому суждено было сыграть роковую роль в жизни Сципиона, звали Марк Порций Катон Старший. Он был почти ровесник Публия,{79} но родился не в знатном и старинном аристократическом доме, как этот последний, а в семье простого крестьянина, в маленьком провинциальном городке Тускулуме. Внешность Катона прекрасно характеризует следующая эпиграмма:
Порций был злым, синеглазым и рыжим.[157]
Смолоду он отличался железным здоровьем, никогда ничем не болел, дожил до девяноста лет и перед смертью имел сына. Он жил в своем простом деревенском домике, обрабатывал землю вместе с рабами в грубой тунике или нагой. «Уже с ранней юности я обуздывал себя, приучив к бережливости, суровости, трудолюбию, перепахивая сабинские скалы, вскапывая и засеивая булыжники», — писал он (Cato Orat., fr. 128). Катон славился как отличный хозяин. Мало было столь расчетливых и домовитых людей, как он. Он все делал сам: умел и пирог испечь, и поле вспахать, и дать больному волу лекарство.
Все это привлекло к нему внимание знатного соседа Валерия Флакка, патриция, чья земля граничила с полем этого сурового крестьянина. Можно не сомневаться, что Катон вел свое хозяйство лучше и извлекал из своей скудной землицы доход больший, чем Валерий. Как бы то ни было, они познакомились. Флакк был в восторге: грубая простота Катона, его суровость и честность пленили его. Ему казалось, что он видит живого Мания Курия. Дело в том, что неподалеку стоял бедный деревянный домик этого героя, тот самый, где он, если верить преданию, варил репу в глиняном горшке, когда явились, чтобы подкупить его золотом, послы самнитов. Маний же отвечал им, что предпочитает иметь одну репу в простом горшке, но повелевать людьми, владеющими золотом. Указывая на этот домик, Катон говорил Флакку, что Маний Курий для него образец и идеал.
Валерий решил перевезти это чудо в Рим. Вот как случилось, что Катон, «выйдя из маленького городишки, оторвавшись от грубой деревенской жизни, бросился в необъятное море государственных дел Рима» (Plut. Cat. mai., 28). Катон очутился в кругу римской аристократии, в кругу, ему глубоко чуждом и враждебном. Все эти Корнелии, Эмилии и Квинктии были утонченны и изящны, их отцы, деды и прадеды были в Риме консулами и триумфаторами, и они держали себя как наследные принцы. Они привыкли беседовать с царями, а клиентами их были целые города и государства. С восемнадцати лет они командовали войсками. Все это придавало их манерам то гордое спокойствие, которое так поражало иноземцев. Недаром один грек, побывавший в римском сенате, заметил: «То было собрание царей».
На Катона смотрели как на выскочку, нового человека, неотесанного деревенского жителя, и он навсегда запомнил их высокомерие. Впоследствии, когда он был уже консуляром и цензорием, у него вырвались горькие слова: «Вы говорите, что родосцы горды. Это обвинение я менее всего желал бы услышать по отношению к себе и своим детям… Но неужели вы сердитесь, что есть на свете кто-то более гордый, чем мы?» Комментируя это место, Авл Геллий замечает: «Решительно ничего нельзя возразить более веского, более сильного, чем этот укор, обращенный к самым гордым людям на свете» (Gell., VI, 3).
После Второй Пунической войны римская аристократия стала окружать себя роскошью, блеском, изысканным великолепием. Начали жить на широкую ногу, жилища свои украшали греческими статуями и картинами, заказывали дорогие обеды, изящно одевались, устраивали веселые театральные игры, декламировали греческие стихи. И вот среди всего этого блеска, среди великолепных коней с пурпурными чепраками, среди ослепительных колесниц, среди изящных дам в тончайших платьях со шлейфами, среди волн завитых кудрей и аромата духов резко выделялась пуритански суровая темная фигура Катона. Все это милое возрожденческое веселье он назвал мерзостью и объявил ему войну.