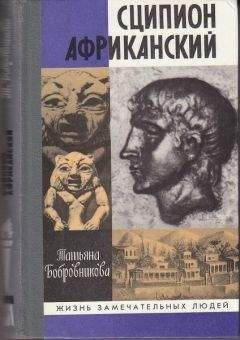После Второй Пунической войны римская аристократия стала окружать себя роскошью, блеском, изысканным великолепием. Начали жить на широкую ногу, жилища свои украшали греческими статуями и картинами, заказывали дорогие обеды, изящно одевались, устраивали веселые театральные игры, декламировали греческие стихи. И вот среди всего этого блеска, среди великолепных коней с пурпурными чепраками, среди ослепительных колесниц, среди изящных дам в тончайших платьях со шлейфами, среди волн завитых кудрей и аромата духов резко выделялась пуритански суровая темная фигура Катона. Все это милое возрожденческое веселье он назвал мерзостью и объявил ему войну.
Они жили в роскошных виллах с мозаичными полами (Cato Orat., fr. 185), а его дом был даже не отштукатурен (Plut. Cat. mai., 4). Они пили из изящных греческих сосудов, у него не было ни одной вазы (Cato Orat., fr. 174). Они заказывали себе обеды у поваров, за рыбу платили дороже, чем за быка (ibid., fr. 145), он ел только самую дешевую крестьянскую пищу (Cato Orat., fr. 53; Plut. Cat. mai., 4). Они пили дорогие вина, он — тот же напиток, что бедняки-гребцы (Cato Orat., fr. 53, 182). «Катон сам говорит, что никогда не носил платья дороже ста денариев, пил такое же вино, как его работники, припасов к обеду покупал всего на тридцать ассов, да и то ради государства, чтобы сохранить силы для службы в войске» (ibid.). Да, среди них он и впрямь казался одним из оживших бородатых консулов, который то проклинает, то отечески вразумляет развращенных внуков.
Катон обрушился со всей силой своего красноречия на все то, что он называл новые нравы, которые мы описали в главе первой. Главными своими врагами он почитал роскошь, новые легкие нравы и все греческое. Он ненавидел греков и «смешивал с грязью всю греческую науку и образование» (Plut. Cat. mai., 23). В наставлениях к сыну он писал: «В своем месте я расскажу тебе, сын мой Марк, то, что я узнал об этих греках в Афинах по собственному опыту, и докажу тебе, что сочинения их полезно просматривать, но не изучать. Эта раса в корне развращена. Верь мне: в этих словах такая же правда, как в изречениях оракула: этот народ все погубит, если перенесет к нам свое образование» (Plin., N.H., XXIX, 14).
Над греческими философами он издевался, Сократа называл пустомелей (Plut. Cat. mai., 23). «Пусть философы ведут ученые беседы с детьми эллинов, а римская молодежь по-прежнему внимает законам и властям», — говорил он (ibid., 22). Он клеймил позором людей, любующихся греческими статуями и картинами (Cato Orat., fr. 94, 95; Liv., XXXIV, 4), призывал изгнать из Италии всех греков (Plin. N.H., VII, 113) и предрекал, что «римляне, заразившись греческой ученостью, погубят свое могущество» (Plut. Cat. mai., 23).
Его великая борьба против новых нравов началась с юности и продолжалась всю жизнь. Первое его выступление относится к тому времени, когда он был назначен квестором при Сципионе в Сицилию.{80} Когда он, прибыв в Сиракузы, увидел полководца в модном греческом плаще, с длинными кудрями, когда он узнал, что тот все время проводит в театре или библиотеке, дает блестящие пиры и осыпает солдат подарками, Катон остолбенел. Он был поражен не менее, чем Лютер, увидавший беспутства эллинизировавшегося римского папы. Читатель помнит, быть может, как Катон, подойдя к императору, с резкой прямотой обличил его, перечислил, сколько денег тот бросил на ветер, и прибавил, что жалеет не денег, а исконную римскую простоту, которую губит Публий Корнелий. Получив от Сципиона гордый и холодный ответ, он немедленно покинул остров и явился в Рим с официальным доносом на военачальника. «Он вел себя как мальчишка, — доносил Катон, — пропадая в театрах и палестре» (Plut., ibid., 3).
Катон едва не сорвал экспедицию Сципиона, и только благодаря своей ловкости и счастью Публий сумел отплыть в Африку. Таково было первое открытое выступление Катона. Второй раз он изложил свои взгляды уже перед всем Форумом. Повод к этому выступлению был странен и несколько забавен. В дело замешаны были женщины. Надо сказать, что во всех произведениях того времени женщины, их наряды и упрямое своеволие занимают огромное место. Это не должно особенно нас удивлять. Вспомним беседу бояр, противников Петра и ревнителей старины, у Пушкина. Собравшись вместе, они хором осуждают вредные новшества. Старая барыня начинает так:
— Подлинно нынешние наряды на смех всему миру… Ведь посмотришь на нынешних красавиц, и смех и жалость: волоски сбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукой, животик перетянут так, что еле не перервется, исподницы напялены на обручи…
— Ох, матушка Татьяна Афанасьевна, — сказал Кирила Петрович Т., бывший в Рязани воеводой, где нажил себе 3000 душ и молодую жену, то и другое с грехом пополам. — По мне жена как хошь одевайся… только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала бы новешеньки. Бывало, внучке в приданное доставался бабушкин сарафан… Что делать? Разорение русскому дворянству! — При сих словах он со вздохом взглянул на свою Марью Ильинишну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицания новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие… Наконец, она не вытерпела и, оборотясь к мужу, спросила с кисленькой улыбкой, что находит он дурного в ассамблеях?
— А то в них дурно, — отвечал разгоряченный супруг, — что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены забыли слово апостольское: жена да убоится мужа своего; хлопочут об обновах; не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам вертопрахам.[158]
Мы привели этот рассказ, относящийся к совсем другой эпохе, потому что, как это ни удивительно, точно такие же разговоры слышались и в Риме. Старики у Плавта постоянно ворчат на современных модниц, говорят, что женщины гуляют, надев на себя целые имения (Plaut. Epidic., 226), что безумные траты на женские тряпки превращают мужей в невольников (Plaut. Aulul., 167–170), что каждый год моды меняются и мужьям остается только бежать на аукцион (Plaut. Epidic., 229–235). Один старик, который задумал так же, как Кирила Петрович, жениться на молоденькой, сетует на современных жен и вздыхает, что хорошо бы «жены в большем страхе пребывали бы и наши расходы бы поубавились» (Plaut. Aulul., 483–484). Катон, разумеется, в этой суровой борьбе встал на сторону мужей. Началось все так.
После страшных поражений, нанесенных Ганнибалом, был принят закон, повелевающий женщинам носить траур, — они не должны были надевать цветных платьев, золотых украшений и ездить в колесницах. Когда-то этот закон был, может быть, уместен. Враг был у ворот Рима, город звенел от воплей женщин, потерявших мужей, братьев, сыновей и отцов. Тогда было не до нарядов. Но вот гроза миновала, все кругом дышало радостью, а суровый Оппиев закон позабыли отменить. Женщины очень возмущались, что их одних исключили из общего веселья. Это тем более казалось несправедливым, что жены союзников щеголяли в драгоценных одеждах и разъезжали в прекрасных колесницах, а собственные их мужья с каждым днем одевались все элегантнее. Иной раз они появлялись на улице верхом на коне, убранном золоченой сбруей и пурпурной попоной, и матроны с болью и досадой спрашивали у них, неужели им не стыдно, что их лошадь наряжена лучше, чем жена. В конце концов в 195 году до н. э., через шесть лет после окончания войны, два галантных трибуна, принадлежавших к новому поколению, возбудили вопрос об отмене злополучного закона.