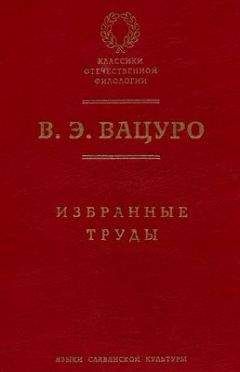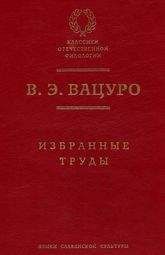Некоторые места в этом письме не вполне понятны и не получили объяснения. Очевидно — это следует и из него, и из последующих писем — Вяземский прислал Пушкину какие-то свои стихи о Хвостове, написанные им в дороге, и в этих стихах была та тема «поэтического навоза», которая наметилась уже в его ревельском письме к жене — том самом, которое он так стремился показать Пушкину. Вероятно, стихи были пародийны, — и Вяземский соотносил их с пушкинской одой (о ней идет речь в строках «Ты сам Хвостова подражатель…»). Стихов этих мы не знаем; вероятно, они были приложены к письму на отдельном листке и не сохранились. Шестистишие, начинавшее письмо, было своего рода сопроводительным текстом.
Около 7 ноября Пушкин пишет Вяземскому, что стихи доставили ему величайшее удовольствие. «<…> С тех пор как я в Михайловском, я только два раза хохотал; при разборе новой пиитики басен (статья Вяземского „Жуковский. Пушкин. О новой пиитике басен“. — В. В.) и при посвящении г<…>у г<…>а твоего». И он подхватывает тему «поэтического поноса»:
В глуши, измучась жизнью постной,
Изнемогая животом,
Я не парю — сижу орлом
И болен праздностью поносной.
Этот фейерверк каламбурных двусмысленностей — еще один выпад против одописцев. «Парит орлом» — одический поэт; «сидеть орлом» — удел обуреваемого поносом. «Поносная праздность» — одновременно и «позорная».
Что же касается первой строки — это преображенная биографическая реалия. Конечно, «измучась жизнью постной» — гипербола; в Михайловском Пушкин вовсе не голодал. Но подобные же гиперболы мы находим и в раздраженных его письмах этого времени, где он жалуется на безденежье, на контрафакции и беспечность брата Льва, грозящие оставить его без куска хлеба. «<…> Эдак с голоду умру <…>» (брату, от 7 апреля 1825 г. — XIII, 161). «…Год прошел, а у меня ни полушки <…> Словом мне нужны деньги или удавиться» (брату, 28 июля 1825 г. — ХIII, 194).
Нужен был еще один шаг, чтобы спроецировать на себя литературный облик «бедного поэта»:
Я же с черствого куска,
От воды сырой и пресной
Сажен за сто с чердака
За нуждой бегу известной.
(«Ты и я»)
Последняя строка также подготовлена цепью каламбуров в шуточном послании к Вяземскому:
Бумаги берегу запас,
Натугу вдохновенья чуждый.
Хожу я редко на Парнас
И только за большою нуждой.
В заключении возникает фигура Хвостова — основного героя переписки:
Но твой затейливый навоз
Приятно мне щекотит нос;
Хвостова он напоминает,
Отца зубастых голубей,
И дух мой снова призывает
Ко испражненью прежних дней.
(XIII, 239)
Это — контекст «жесткой оды Хвостова» в «Ты и я».
Итак, почти все мотивы и темы, составляющие в совокупности это достаточно сложное для истолкования стихотворение, сходятся, как в едином фокусе, в пушкинской переписке 1825 г. Они интегрируются в единое целое, скорее всего, осенью этого года, когда в стихах, включенных в письма, появляются прямые словесные переклички с «Ты и я». «Бедный поэт», противопоставленный «богатому прозаику», — эта центральная контрастная пара влечет за собой целый ряд противопоставлений, о которых у нас уже шла речь,
Но это и все, что может нам дать мотивный анализ. Не имея творческой истории стихотворения, не зная импульса, вызвавшего его к жизни, мы не можем истолковать его до конца. Так, мы не знаем, что именно заставило Пушкина сделать «прозаика» подобием «русского Трималхиона», но должны еще раз предупредить об опасности конкретного, тем более биографического истолкования мотива. «Богатых прозаиков» в России не было — во всяком случае, к 1825 году. Пушкин это отлично знал и еще летом 1825 года писал Рылееву: «Не должно русских писателей судить как иноземных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из тщеславия. Там стихами живут, а у нас гр<аф> Хв< остов > прожился на них. Там есть нечего, так пиши книгу, а у нас есть нечего, служи, да не сочиняй. Милый мой, ты поэт и, я поэт — но я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав» (письмо от второй половины июня — августа 1825 г. — XIII, 219). Как и «поэт», «прозаик» в стихотворении — условно-литературный персонаж, «не-поэт», «антипоэт», носитель прагматического, материального, «прозаического» начала, — именно на этом значении слова «проза» Пушкин постоянно играет в своих письмах.
«Ты и я» — не памфлет, хотя и «сатира» в том смысле, в каком это слово можно применить, например, к «Сатирикону» Петрония. В ней ясно проявляется игровое, пародийное начало, восходящее ко времени «Арзамаса», соединенное с теми элементами народной, «раблезианской» смеховой культуры, которое было описано в работах М. М. Бахтина как поэтика материально-телесного низа. Эта авторская установка на пародийную, травестирующую игру отличает «Ты и я» от «Прозаика и поэта», где просматривается конкретный полемический адрес, который сейчас от нас ускользает. Он вышел на поверхность в одном примечательном эпизоде, который, как представляется, имеет некоторое отношение к нашей теме.
Мемуар Вяземского
Этот эпизод, уже однажды бывший предметом внимания пушкиноведов, был рассказан Вяземским в поздней (1875 г.) приписке к статье «Цыганы, поэма Пушкина». Вяземский вспоминал, что некоторые замечания его о поэме не понравились Пушкину своим учительским тоном и «слишком прозаическим взглядом» и что ответом на них была эпиграмма «Прозаик и поэт». «Пушкин однажды спрашивает меня в упор, — продолжает Вяземский, — может ли он напечатать следующую эпиграмму:
О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Полагая, что вопрос его относится до цензуры, отвечаю, что не предвижу никакого со стороны ее препятствия. Между тем замечаю, что при этих словах моих лицо его вдруг вспыхнуло и озарилось краскою, обычною в нем приметою какого-нибудь смущения или внутреннего сознания неловкости положения своего. <…> Уже после смерти Пушкина как-то припомнилась мне вся эта сцена; <…> я понял, что этот прозаик — я, что Пушкин, легко оскорблявшийся, оскорбился некоторыми заметками в моей статье и, наконец, хотел узнать от меня, не оскорблюсь ли я сам напечатанием эпиграммы, которая сорвалась с пера его против меня. Досада его, что я, в невинности своей, не понял нападения, бросила в жар лицо его»[539].
Н. О. Лернер впервые обратил внимание на то, что этот рассказ противоречит хронологии событий. «Прозаик и поэт» напечатан впервые в декабре 1826 г. — в № 1 «Московского вестника» на 1827 г., статья же о «Цыганах» закончена лишь 5 мая 1827 г.[540] Добавим к этому, что и по содержанию эпиграмма трудно согласуется с ним.