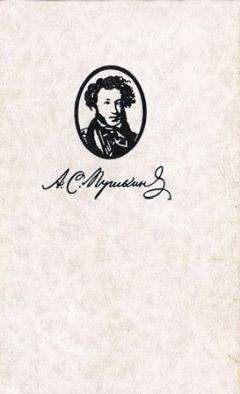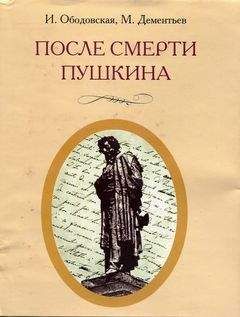Ознакомительная версия.
Однако спокойствие зависит не только от капризной тещи, но и от событий более важных. Пушкин весь полон тревожных мыслей о польских делах. 4 июня после смерти Дибича[990] командующим действующими против повстанцев войсками назначен был Паскевич.
Граф Е. Е. Комаровский[991] рассказывал, что летом 1831 года он встретил однажды на прогулке Пушкина, задумчивого и тревожного. «Отчего невеселы, Александр Сергеевич?» — «Да всё газеты читаю». — «Что же такое?» — «Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году?»
Рассказ графа Комаровского заслуживает доверия. Пушкин именно так думал о тогдашних событиях, 1 июля он писал Вяземскому о последних известиях. Он живописно рассказывает о геройском поведении Крженецкого[992], одного из главарей повстанцев. Смертельно раненный, он запел польский гимн, воодушевляя дрогнувшие войска. «Все это хорошо в поэтическом отношении, — писал Пушкин, — но все-таки их надобно задушить и наша медленность мучительна. Для нас мятеж Польши[993] есть дело семейственное, старинная наследственная распря, мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей».
Не все, конечно, разделяли эти мысли Пушкина. И тот же князь П. А. Вяземский не усматривал, например, в польском мятеже 1831 года того содержания и смысла, которые волновали тогда Пушкина. Жесткие и грубые слова «но все-таки их надобно задушить» вызывали естественное негодование у тех, кто в этом мятеже видел восстание угнетенной национальности. Но Пушкин видел в этом восстании нечто иное. Ему казалось, что борьба идет не между польским народом и царским правительством, а между польскою шляхтой, подстрекаемою Западною Европою, и русским государством. Польша, как известно, благодаря конституции, «дарованной» ей Александром I, пользовалась по сравнению с Великороссией несомненными привилегиями. Декабристы негодовали на Александра за эти политические преимущества, которых была лишена Россия. Пестель, будучи сторонником унитарного государства, хотя и делал для Польши исключение и проектировал ее присоединение на федеративных началах, однако отнюдь не допускал мысли об ее великодержавии. А польская шляхта всегда мечтала именно об этом великодержавии, претендуя на Киев и на выход к морю. Замученные крепостным правом польские крестьяне ненавидели ближайших своих угнетателей больше, чем русское правительство. Западная буржуазия поддерживала восстание не ради прекрасных глаз повстанцев, а желая ослабить растущий русский империализм.
Николай Павлович Романов понимал, что возможна война с Европою; в январе 1831 года он писал цесаревичу Константину: «Кто-то из двух должен погибнуть — так как погибнуть необходимо, — Россия или Польша…» Возникал старый спор о гегемонии в славянском мире. Пушкин стоял на дворянско-патриотической точке зрения. Он хорошо знал историю. Он знал, что вопрос о политической гегемонии России или Польши поставлен был с большой остротою еще во второй половине XVI века. Речь Посполитая владела тогда исконными русскими землями, тяготевшими к Москве и связанными с нею языком и культурою. Борьба продолжалась и в XVII веке. Римская курия очень была озабочена окатоличиванием западного населения Руси и поддерживала притязания Польши. Пушкин превосходно знал отношения Польши и Московского государства в эпоху самозванцев. Если бы земское ополчение не выгнало поляков из московского Кремля в 1612 году, не было бы русского великодержавия, а может быть, и самостоятельной русской культуры. Как известно, поляки, покидая Кремль, успели его зажечь, что и дало повод Пушкину написать:
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали[994]
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их…[995]
Только при Петре, после Полтавской победы русское великодержавие настолько упрочилось, что Польша вынуждена была признать русскую гегемонию.
Пушкин видел в Польше авангард враждебной России Западной Европы. Это и дало ему повод написать «Клеветникам России»[996] — стихотворный памфлет, в коем иные увидели «измену» бывшего «либералиста». Однако Пушкин никогда не отличался равнодушием к интересам русского империализма: еще в 1824 году в послании к польскому стихотворцу и патриоту графу Густаву Олизару[997] он писал:
Певец! Издревле меж собою
Враждуют наши племена,
То наша стонет сторона,
То гибнет ваша под грозою…[998]
Эти строки представляют вариант стихов, написанных в 1831 году:
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона…[999]
В начале польского восстания, неожиданного для царского правительства, русские войска действовали очень нерешительно. Явились сомнения в возможности подавить мятеж. Под влиянием этих настроений Пушкин написал пьесу «Перед гробницею святой»[1000], а после взятия Варшавы «Бородинскую годовщину». В этом последнем стихотворении поэт старается найти мотивы примирения:
В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали…
Они народной Немезиды[1001]
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца…
Удивляться тому, что Пушкин разделял тогда патриотическое настроение дворянских кругов, не приходится, разумеется. Еще в 1821 году, в разгар его вольнодумства, когда он живейшим образом интересовался «Проектом вечного мира» Сен-Пьера и сочувствовал ему, это не помешало поэту воспевать военную колонизаторскую политику царского правительства на Кавказе — «орел двуглавый», «грохот русских барабанов»[1002] и генералов Цицианова[1003], Котляревского[1004] и Ермолова. В середине сентября 1831 года вышла брошюра «На взятие Варшавы»[1005] со стихами Жуковского и Пушкина, посвященная событиям в Польше.
Как это ни странно, среди восхищавшихся патриотическими стихами Пушкина оказался Петр Яковлевич Чаадаев. Казалось бы, этот мрачный обличитель России, веривший в то, что одна только Западная Европа является носительницей величайшей идеи человеческого единства, должен негодовать на самонадеянный национализм поэта, а он писал ему в это время по поводу его патриотических пьес: «Вот, наконец, вы — национальный поэт; вы угадали, наконец, свое призванье…», «Стихотворение к врагам России в особенности изумительно…» («La piece aux ennemis de la Russie est surtout admirable…»). Но этого мало. Чаадаев не скупится на похвалы: в пьесе «Клеветникам России», оказывается, «больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране…».
Ознакомительная версия.