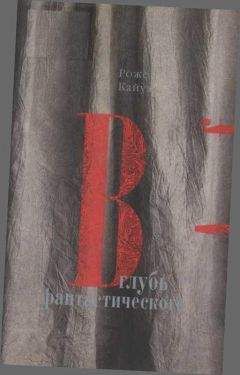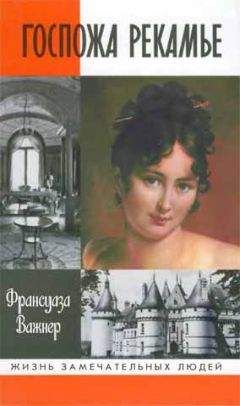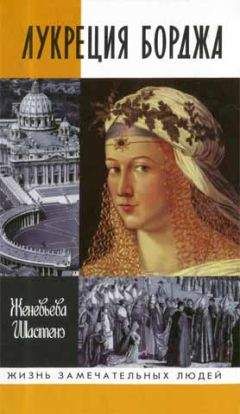Yves Bonnefoy. L'IMPROBABLE (Essais choisis)
Посвящаю эту книгу невероятному, то есть сущему.
Бодрствующему духу. Отрицательному богословию. Вечно желанным стихам: поэзии дождей, ожидания и ветра.
Великому реализму, который не предлагает решений, — напротив, делает задачу еще более сложной. Уточняет границы темноты, но помнит, что любой просвет — лишь облако, и его тоже можно разорвать. Стремится к иной ясности, высокой и недостижимой.
Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства Франции в России.
Ouvrage réalisé dans le cadre du programme d'aide à la publication «Pouchkine» avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères Français et de l'Ambassade de France en Russie.
© Editions «Mercure de France». 1992.
© M. Гринберг. Перевод, комментарии. 1998.
© Б. Дубин. Перевод, комментарии. 1998.
© «Carte Blanche». Оформление. 1998.
{1}Ив Бонфуа родился 24 июня 1923 г. в Туре. Его отец, выходец из крестьянской семьи, работал в вагоноремонтных мастерских, мать, также крестьянского происхождения, была учительницей в сельской школе. В 1943 г., окончив лицей в родном городе и подготовительное отделение университета Пуатье, Бонфуа уезжает в Париж для поступления в Сорбонну, но к этому времени твердо решает посвятить свою жизнь поэзии. В Париже он ненадолго сближается с группой сюрреалистов, после возвращения Андре Бретона из США начинает по приглашению последнего бывать на его домашних собраниях, однако в 1947 г., накануне всемирной выставки сюрреалистов, порывает с Бретоном и его единомышленниками. Зарабатывая на жизнь преподаванием математики, Бонфуа продолжает свое математическое и философское образование (наряду с античными и французскими классиками его любимыми авторами стали в эти годы Кьеркегор и Шестов), посещает лекции Ж.Ипполита и Ж.Валя в Сорбонне и Г.Башляра в Институте истории науки. В 1950 г. Бонфуа начинает заниматься в семинаре А.Шастеля, много путешествует по Италии; с этих пор история изобразительного искусства навсегда становится важнейшей областью его интересов. Признание читателей и критики приходит к Бонфуа в 1953 г., когда в печати появляется его эссе «Гробницы Равенны» и первая книга стихов «О движении и неподвижности Дувы». В это же время он издает свою первую искусствоведческую работу — книгу о средневековой французской живописи. В 50-е годы постепенно складывается круг друзей Бонфуа: это молодые поэты, так или иначе противопоставляющие свое творчество еще влиятельному сюрреализму, — Ф.Жакоте, А.Дю Буше, Ж. Дюпен, критики Г.Пикон, Ж.Старобинскнй. Из старшего поколения французских поэтов Бонфуа поддерживает дружеские отношения с П.Ж.Жувом.
В настоящее время Ив Бонфуа — один из наиболее известных и читаемых современных французских поэтов, автор семи книг стихов, сборника рассказов и повестей, нескольких объемных томов эссе и статей по проблемам поэтики, изобразительного искусства и теории художественного перевода, а также монографий «Рим, 1630. Горизонты раннего барокко» и «Альберто Джакометти» (основные издательства, с которыми сотрудничает писатель, — «Фламмарион», «Меркюр дс Франс», «Галлимар», «Скира»). Он много переводит, главным образом Шекспира и Йейтса. Лауреат премий Монтеня, Французской Академии и др.; доктор honoris causa ряда европейских и американских университетов. С I960 г. Бонфуа преподает в различных учебных учреждениях Франции, Швейцарии и США. В 1981 г. он избирается профессором Коллеж де Франс (второй, после Поля Валери, случай, когда этого почетного звания удостоен поэт) и в течение двенадцати лет возглавляет здесь кафедру сравнительной поэтики. Бонфуа также плодотворно работает в союзе с художниками: он издал целый ряд книг, в которых его стихи или эссе соседствуют с офортами и литографиями Тапиеса, Ван Вельде, Миро, Голлана, Алешинского и других признанных мастеров. В 90-х годах творчеству Бонфуа были посвящены несколько выставок, где подобного рода книги составили основную или значительную часть экспозиции: большая выставка в Парижской Национальной библиотеке (1992); выставки в Туре, родном городе поэта (1993), в Нью-Йорке (1995), в швейцарском городе Веве (1996-97).
I
Многие философы пытались осмыслить смерть, но я не знаю ни одного, чье внимание привлекли бы надгробия. Наш дух, обычно задающийся вопросами о бытии, а не о камне, отвернулся от этих камней, обрекая их на двойное забвение.
Существует, однако, общий закон погребения, который люди более или менее последовательно соблюдают, — от Египта до Равенны, и далее, вплоть до наших дней. Некоторые цивилизации достигли в своих могильных памятниках подлинного совершенства, а все совершенное по праву может быть предметом размышления. Почему же могилу так упорно обходят молчанием, и даже те учения о смерти, которые признаны наиболее смелыми? По-моему, мысль нельзя признать полноценной, если она соглашается остановиться там, где столь естественно было бы двигаться дальше и где это движение отвечало бы нашему беспокойству.
«Hic est locus patriae»{3} — гласит одна из римских надгробных надписей. Но что такое родина без земли, определяющей ее границы, и можно ли забывать об этой земле?
Я убежден: понятие, этот едва ли не единственный инструмент нашей философии — какой бы проблемой та ни занималась, — в конечном счете сводится к отрицанию смерти. Понятие всегда служит бегству, для меня тут нет сомнений. Поскольку в этом мире умирают человек, не желая мириться со своей обреченностью, построил из понятий логическое убежище, в котором безраздельно господствуют два закона — причинности и тождества. Жилище, сложенное из слов, но на века. Под его кровом, не испытывая чрезмерного страха, умирает Сократ. Хайдеггер тоже предпочитает размышлять в этом привычном укрытии — и хотя меня восхищает та решимость, с какой он пишет о смерти, вдыхающей жизнь во время и придающей направленность бытию, это восхищение остается чисто эстетическим и интеллектуальным, так как на деле и у него все разрешается внутри того же строения. Приглушая нашу изначальную тревогу ненадежным знанием, предмет мысли, переставший быть реальным предметом, становится здесь гнетущей и безысходной словесной мелодией, за которой уже нельзя различить самой смерти, смерти как таковой.
Смерть в ее отношении к мышлению остается, как у греков, не более чем идеей, сообщницей других идей, пребывающей вместе с ними в вечном царстве, где как раз ничто и не умирает. В этом вся наша истина — она осмеливается дать определение смерти, но лишь с тем, чтобы подменить ее словом, логическим определяемым. Ведь определяемое нетленно: помогая не думать о самой смерти и о ее ужасном облике, оно обеспечивает нам какое-то странное бессмертие.
Бессмертие временное, но большего нам и не надо.
Мы привыкаем к нему как к опию. Пусть мое сравнение сразу же даст понять, какого рода критике я намерен подвергнуть понятие, — это будет прежде всего нравственная критика. У понятия есть и своя правда, ей я не берусь быть судьей. Но по существу своему понятие лживо, и его ложь уводит мысль из дома вещей, предлагая ей взамен могучую власть, которую дают слова. После Гегеля стало ясно, как неодолимо это усыпление, как вкрадчива «система». Отстраняя законы логики, я утверждаю: даже тень понятийности порождает бегство. В любой мысли, строящей себя из себя самой, побеждает идеализм. Лучше, внушает нам исподволь такая мысль, построить мир заново, чем жить в нем под постоянной угрозой.
Существует ли понятие шагов в темноте, которые звучат все ближе и ближе? Понятие крика, понятие камня, сорвавшегося с кручи и сминающего кусты? Понятие чувства, возникающего в опустелом доме? Куда там: мы сохраняем от реальности только то, что не смущает нашего спокойствия.
Я, однако, не думаю, что к числу заговоренных вещей, ускользающих из-под прицела понятия, относится и могила. Какую трудность может являть для нашего ума голый камень, тщательно поставленный на место, дочиста отмытый солнцем от всякого напоминания о смерти? Могилы, вопреки начертанным на них именам и эпитафиям, становятся началом забвения.
Кажется даже, что на большинство из них наброшен какой-то покров, который не дает ощутить близость смерти во всей ее остроте, во всей подлинности. Этот покров почти материален, как листва кладбищенских деревьев, приглушающая своим шелестом слишком громкие голоса. К нему можно прикоснуться в Равенне, где он обволакивает самые чистые формы смерти, какие знало время.
II
Все памятники Равенны — гробницы. От незапамятных времен своего расцвета это место, давно утратившее связь с миром, сохранило самые разные способы погребения ушедшего из жизни. Весь смысл этих высоких круглых башен, уже ни на что не годных, ослепших, сводится к скорому превращению в развалины. На каждом шагу, среди почти полного безмолвия, здесь встречаешь пустые саркофаги, демонстрирующие свою двойную смерть. Один из мавзолеев, считающийся усыпальницей Галлы Плацидии, вобрал в четыре стены все торжественное и печальное совершенство, какого только способно достигнуть земное желание. Даже церкви, как бы заслоненные своими пышными мозаиками, выглядят лишь вместилищем бренных останков культа. Если есть в мире место, где могиле суждено в полной мере выразить ужас, который она предвещает, то это, конечно, Равенна, остающаяся мертвой, и только мертвой, в каждом тусклом отсвете своей утраченной царственности.