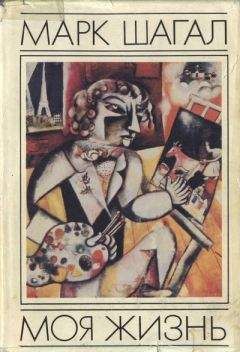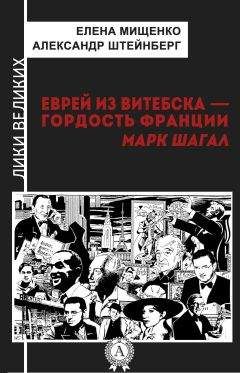Родителям, жене, родному городу.
М.Ш.
Корыто — первое, что увидели мои глаза…
Корыто — первое, что увидели мои глаза. Обыкновенное корыто: глубокое, с закругленным краями. Какие продаются на базаре. Я весь в нем умещался.
Не помню кто, скорее всего, мама рассказывала, что как раз когда я родился — в маленьком домике[1] у дороги позади тюрьмы на окраине Витебска вспыхнул пожар.
Огонь охватил весь город, включая бедный еврейский квартал.
Мать и младенца у нее в ногах, вместе с кроватью, перенесли в безопасное место, на другой конец города. Но главное, родился я мертвым.
Не хотел жить. Этакий, вообразите, бледный комочек, не желающий жить. Как будто насмотрелся картин Шагала.
Его кололи булавками, окунали в ведро с водой. И наконец он слабо мяукнул.
В общем, я мертворожденный.
Автопортрет в рамке. 1910-е. Бумага, тушь.
Пусть только психологи не делают из этого каких-нибудь нелепых выводов. Упаси Бог!
Между прочим, дом на Песковатиках — так назывался наш район — цел и сейчас. Я видел его не так давно.
Когда у отца появились средства, он сразу дом продал. Мне эта халупа напоминает шишку на голове зеленого раввина с моей картины или картофелину, упавшую в бочку с селедками и разбухшую от рассола. Глядя на нее с высоты нового «величия», я морщился и думал:
«Как же я здесь ухитрился родиться? Чем здесь люди дышат?»
Когда мой дед, почтенный старец с длинной черной бородой, скончался с миром, отец за несколько рублей купил другое жилье.
Там уже не было по соседству сумасшедшего дома, как на Песковатиках. Вокруг церкви, заборы, лавки, синагоги, незамысловатые и вечные строения, как на фресках Джотто.
Явичи, Бейлины — молодые и старые евреи всех мастей трутся, снуют, суетятся. Спешит домой нищий, степенно вышагивает богач. Мальчишка бежит из хедера. И мой папа идет домой.
В те времена еще не было кино.
Люди ходили только домой или в лавку. Это второе, что я помню, — после корыта.
Не говоря о небе и о звездах моего детства.
Дорогие мои, родные мои звезды, они провожали меня в школу и ждали на улице, пока я пойду обратно. Простите меня, мои бедные. Я оставил вас одних на такой страшной вышине!
Мой грустный и веселый город![2]
Ребенком, несмышленышем, глядел я на тебя с нашего порога. И ты весь открывался мне. Если мешал забор, я вставал на приступочку. Если и так было не видно, залезал на крышу. А что? Туда и дед забирался.
И смотрел на тебя сколько хотел.
Здесь, на Покровской улице, я родился еще раз.
Вы когда-нибудь видели на картинах флорентийских мастеров фигуры с длинной, отроду не стриженной бородой, темно-карими, но как бы и пепельными глазами, с лицом цвета жженой охры, в морщинах и складках?
Это мой отец.
Портрет отца. 1907. Бумага, тушь, сепия.
Или, может, вы видели картинки из Агады[3] — пасхально-благостные и туповатые лица персонажей? (Прости, папочка!)
Помнишь, как-то я написал с тебя этюд. Твой портрет должен походить на свечку, которая вспыхивает и потухает в одно и то же время. И обдавать сном.
Муха — будь она проклята — жужжит и жужжит и усыпляет меня.
Надо ли вообще говорить об отце?
Что стоит человек, который ничего не стоит? Которому нет цены? Вот почему мне трудно подыскать слова.
Мой дед, учитель в хедере, не нашел ничего лучшего, чем с самого детства определить своего старшего сына, моего отца, рассыльным к торговцу селедкой, а младшего — учеником к парикмахеру.
Конечно, в рассыльных отец не остался, но за тридцать два года не пошел дальше рабочего.
Он перетаскивал огромные бочки, и сердце мое трескалось, как ломкое турецкое печенье, при виде того, как он ворочает эту тяжесть или достает селедки из рассола закоченевшими руками. А жирный хозяин стоит рядышком, как чучело.
Бабушка. 1922–1923. Бумага, офорт, сухая игла.
Одежда отца была вечно забрызгана селедочным рассолом. Блестящие чешуйки так и сыпались во все стороны. Иногда же его лицо, то мертвенно-, то изжелта-бледное, освещалось слабой улыбкой.
Что это была за улыбка! Откуда она бралась?
Отца словно вдувало в дом с улицы, где шныряли темные, осыпанные лунными бликами фигуры прохожих. Так и вижу внезапный блеск его зубов. Они напоминают мне кошачьи, коровьи, все, какие ни на есть.
Отец представляется мне загадочным и грустным. Каким-то непостижимым.
Всегда утомленный, озабоченный, только глаза светятся тихим, серо-голубым светом.
Долговязый и тощий, он возвращался домой в грязной, засаленной рабочей одежке с оттопыренными карманами — из одного торчал линяло-красный платок. И вечер входил в дом вместе с ним.
Дом в Песковатиках 1922–1923. Бумага, офорт, сухая игла.
Из этих карманов он вытаскивал пригоршни пирожков и засахаренных груш. И бурой, жилистой рукой раздавал их нам, детям. Нам же эти лакомства казались куда соблазнительней и слаще, чем если бы мы сами брали их со стола.
А если нам не доставалось пирожков и груш из отцовских карманов, то вечер был бесцветным.
Я один понимал отца, плоть от плоти своего народа, взволнованно-молчаливую, поэтическую душу.
До самых последних лет жизни, пока не «сбесились» цены, он получал каких-то двадцать рублей. Скудные чаевые от покупателей не много прибавляли к этому жалкому доходу. И все-таки даже в молодости он не был совсем уж бедным женихом.
Судя по фотографиям тех лет и по моим собственным воспоминаниям о семейном гардеробе, он был не только физически крепок, но и не нищ: невесте, совсем девочке, крохотного росточка — она подросла еще и после свадьбы — смог преподнести богатую шаль.
Женившись, он перестал отдавать жалованье отцу и зажил своим домом.
Однако прежде надо бы закончить портрет моего длиннобородого деда. Не знаю, долго ли он учительствовал. Говорят, он пользовался всеобщим уважением.
Когда в последний раз, лет десять назад, я вместе с бабушкой был на его могиле, то, глядя на надгробие, лишний раз убедился, что он и впрямь был человеком почтенным. Безупречным, святым человеком.
Он похоронен близ мутной, быстрой речки, от которой кладбище отделяла почерневшая изгородь. Под холмиком, рядом с другими «праведниками», лежащими здесь с незапамятных времен.
Буквы на плите почти стерлись, но еще можно различить древнееврейскую надпись: «Здесь покоится…»
Бабушка говорила, указывая на плиту: «Вот могила твоего деда, отца твоего отца и моего первого мужа».
Плакать она не умела, только перебирала губами, шептала: не то разговаривала сама с собой, не то молилась. Я слушал, как она причитает, склонившись перед камнем и холмиком, как перед самим дедом; будто говорит в глубь земли или в шкаф, где лежит навеки запертый предмет:
«Молись за нас, Давид, прошу тебя. Это я, твоя Башева. Молись за своего больного сына Шатю, за бедного Зюсю, за их детей. Молись, чтобы они всегда были чисты перед Богом и людьми».
С бабушкой мне всегда было проще. Невысокая, щуплая, она вся состояла из платка, юбки до полу да морщинистого личика.
Ростом чуть больше метра.
А вся душа заполнена преданностью любимым деткам да молитвами.
Овдовев, она, с благословения раввина, вышла замуж за моего второго деда, тоже вдовца, отца моей матери. Ее муж и его жена умерли в тот год, когда поженились мои родители. Семейный престол перешел к маме.
Сердце мое всегда сжимается…
Отец и мать. 1910-е. Бумага, тушь.
Сердце мое всегда сжимается, когда во сне увижу матушкину могилу или вдруг вспомню: нынче день ее смерти.
Словно снова вижу тебя, мама.
Ты тихонько идешь ко мне, так медленно, что хочется тебе помочь. И улыбаешься, совсем как я. Она моя, эта улыбка.
Мама родилась в Лиозно, это там я написал дом священника, перед домом — забор, перед забором — свиньи.
Вот и хозяин: поп или как его там. Крест на груди сияет, он улыбается мне, сейчас благословит. На ходу поглаживает себя по бедрам. Свиньи, как собачки, бегут ему навстречу.
Мама — младшая дочь деда. Полжизни он провел на печке, четверть — в синагоге, остальное время — в мясной лавке. Бабушка не выдержала его праздности и умерла совсем молодой.
Тогда дед зашевелился. Как растревоженная корова или теленок.
Правда ли, что мама была невзрачной коротышкой?
Дескать, отец женился на ней не глядя. Да нет.
У нее был дар слова, большая редкость в бедном предместье, мы знали и ценили это.
Однако к чему расхваливать маму, которой давно уж нет на свете! Да и что я скажу?