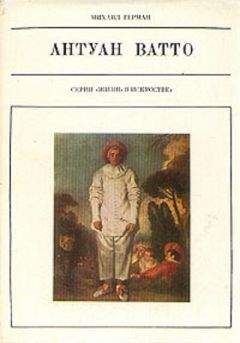Расставание с Жереном обернулось бедой: за год, а то и два можно было выучиться растирать краски и самым азам рисования, вряд ли большему. Конечно, Жерен был мастером незначительным, зато в Валансьене самым знаменитым. Его картины висели и в городке Дуэ, неподалеку от Валансьена, и даже в самом Лилле. Во все времена запах мастерской художника — красок, лака, масла, это зрелище на глазах возникающих искусных изображений — таинство для грезящего живописью неофита. В заштатном Валансьене Жерен, причастный пусть самым банальным, но все же дразнящим воображение тайнам ремесла, был человеком иного мира. От этого-то драгоценного «иного мира» отрывала отцовская скупость Антуана Ватто. Вот первое, несомненно реальное драматическое событие. За этим последовал и первый, известный биографам, решительный поступок юноши. Он ушел из дому и вообще из города.
О городе уместно сказать особо — в событиях жизни и отчасти даже искусства Ватто он, конечно, сыграл свою роль. Возможно, это один из самых скучных городов северной Франции, которая и сама по себе достаточно скучна, — пустынная плоская равнина, однообразная, лишенная холмов, живописных рек и густых лесов. На этой равнине древний Валансьен, возведенный еще римлянами у слияния двух узеньких речек — Шельды и Рондели, был единственной крепостью и, следовательно, постоянным яблоком раздора. Им владели то франкские короли, то фландрские графы, его осаждали, жгли, обольщали, всем он был нужен, вечно в чьем-то глазу он оставался бельмом. Жители Валансьена слышали пылкие речи Якоба ван Артевельде — вождя гентских повстанцев, слышали пушки отважного маршала Тюренна, двести лет спустя бомбардировавшего город. Совсем недавно был он владением Испанских Нидерландов. Офицеры в желтых мундирах гордились длинными церемонными именами, говорили на звонком кастильском наречии, называли друг друга «донами» и «сеньорами», горожане же говорили по-фламандски или же по-французски с фламандским акцентом. Они и сами не знали толком, какой державе принадлежит их город и к какой нации — они сами. В Валансьене было скучно, как во всякой провинции, но покоя в нем не было. Горожане жили в постоянном ожидании перемен и старались ладить с любыми владетелями. Совсем незадолго до рождения Антуана Ватто Валансьен вновь отошел Франции. Людовик XIV сам туда пожаловал, надолго озадачив обывателей гордым блеском мимолетного своего появления. Славный Вобан, искуснейший фортификатор, будущий маршал Франции, отстроил укрепления, которые и двести лет спустя числились официально «крепостью первого ранга», укрепления, чьи развалины и поныне стоят между современными кварталами города грозными призраками давно отшумевших войн. В новой цитадели появился теперь французский гарнизон в белых королевских мундирах, но для валансьенцев и эти солдаты были чужаками. Граница оставалась неприятно близкой, в сущности, было ведь все равно, располагалась она на севере или на юге, в любом случае пушки грохотали рядом, беспокойной увертюрой наступающих вновь лихих времен. В 1693 году в каких-нибудь двадцати лье от Валансьена французы разбили голландцев и англичан под командованием самого принца Оранского. Через два года принц взял реванш, захватив крепость и город Намюр на Маасе (о чем, как известно, очень любил рассказывать стерновский дядя Тоби). И это было не так уж далеко от Валансьена.
В периоды относительного и непрочного затишья в Валансьене к услугам Антуана Ватто были обычные провинциальные развлечения, которые он нашел бы в любом другом маленьком городе: процессии в дни празднеств, колокольный звон и стройное пение мальчиков-хористов в белых кружевах, качающиеся над толпой фигуры великолепно и наивно раскрашенных святых, тяжелые от шитья хоругви, епископ в митре, шагающий медленно и важно под пурпурным балдахином; были ярмарки, одуряюще шумные, с представлениями в балаганах, на помостах и просто на земле, с бродячими лекарями, вооруженными грозными клистирами, с продавцами знаменитого орвьетана[2], с лавками, где торговали гордостью Валансьена — дивного плетения кружевами, с проповедниками, проститутками, предсказателями, ворами, зеваками, с купцами из Парижа, Брабанта, Фландрии, Голландских штатов. «Любовь к живописи обнаруживалась у него уже в раннем детстве; уже тогда он при первой возможности убегал на городскую площадь и зарисовывал там потешные сценки, которые разыгрывают перед прохожими бродячие шарлатаны и продавцы снадобий, — писал его добрый друг Жерсен. — Вот, вероятно, причина его длительного пристрастия к занятным, комическим сюжетам, хотя от природы он всегда был расположен к грусти». Ах, месье Жерсен, если бы все в судьбе художника можно было бы объяснить с помощью подобных чистосердечных и ясных суждений. И кто знает, какой нрав был у Ватто-мальчишки, когда и при каких обстоятельствах стал он таким, каким впервые увидел его Жерсен, — зрелым, замкнутым, трудным. И все же прислушаемся к словам Жерсена, любая частица истины драгоценна.
В пору, когда Ватто-отец отказался платить Жерену за обучение сына, в Валансьене снова было неспокойно. Грозный герцог Малборо, английский полководец, собирал в Нидерландах войска — начиналась война за Испанское наследство. Песенку «Мальбрук[3] в поход собрался» сочинили во Франции позже и вовсе не по делу — французам основательно досталось от храброго герцога. Пока же Валансьен в тревоге: через город проходят роты — «компании» — усталых солдат, скачут всадники в серебряных офицерских шарфах, по узкой, как ручей, Шельде (ее, конечно, называют на французский лад «Эско») тащат барки с провизией, фуражом и порохом, достаточно приказа, чтобы вода через специально устроенные шлюзы хлынула в глубокие крепостные рвы.
Но самой чувствительной неприятностью для Ватто было появление в Валансьене и его окрестностях свирепых и измученных капитанов, отряженных на поиски рекрутов. Согласно издававшимся в те годы ордонансам, законам, им дозволялось практически все. Капитан в сопровождении сержантов с алебардами рыскал повсюду, он имел право насильно зачислять в свою роту молодого крестьянина, работавшего в поле, если тот казался достаточно сильным. Он изучал обязательные списки прислуги мужского пола и списки ремесленников. Ремесленник, не имевший мастерской, подмастерье без хозяина тотчас же становились его добычей. Ватто как раз и оказался в положении недоросля без определенных занятий. Капитан с блестящей, украшенной королевским профилем бляхой на груди был для него дьяволом, охотящимся за его бессмертной душой. В Валансьене Антуану Ватто было решительно нечего делать. Он уехал. Уехал, разумеется, в Париж, о котором, как и все в Валансьене, почти ничего не знал, но где надеялся, наконец, встретиться с искусством и начать учиться ему. Так история в известной мере вмешалась в жизнь Ватто[4].
Он расстался с Валансьеном, вряд ли полагая туда вернуться. И уж наверное не думая, что его скучный город, прежде гордившийся тем, что в нем родился знаменитый автор средневековых хроник Фруассар, со временем станет куда больше гордиться тем, что в нем родился он — Антуан Ватто, что будет в городе и площадь Ватто, и даже его статуя, весьма изящно отлитая в бронзе по модели Карпо, что его работы станут украшением городского музея. От прежнего Валансьена осталось мало, вторая мировая война его не пощадила, но статуя Ватто уцелела, и память о нем свято хранится в городе, где имя художника порой еще произносят на фламандский лад — «Уатто».
Итак, очередной провинциал отправляется искать счастья в Париж. Что может быть тривиальнее? Он уходит из постылого родительского дома под тревожную дробь военных барабанов, идет навстречу тянущимся к северу королевским полкам. Он уходит в совершенно неведомый Париж, надо думать, почти без денег. И это практически все, что можно с большей или меньшей достоверностью сказать о детстве Жана Антуана Ватто.
Он слаб здоровьем, часто кашляет; длинный вислый нос, длинное лицо и руки, костлявые пальцы. Он угрюм, неловок и обидчив. Он только что совершил первый в своей жизни поступок, идущий вразрез с общепринятыми, первый из многих, которые ему еще предстоит совершить. Ему семнадцатый год. Ему осталось прожить двадцать лет.
Перед ним пятьдесят лье. Сейчас это двести с лишним километров, часа три на поезде или на машине. В хорошем экипаже с подставами — день стремительной скачки. Для пешехода же — недели две пути, а для пешехода нищего это еще и разбитые башмаки, в кровь стертые ноги, ночевки на постоялых дворах, а то и под открытым небом. Он не замечает, как равнины Артуа сменяются равнинами Пикардии, как все живописнее делается природа, взор его затуманен голодом, усталостью, беспокойством, он стесняется бедности и боится жалости — об этих его качествах вспоминали позднее современники. И конечно, он конфузится своего языка, тяжелого фламандского акцента, его плохо понимают, может быть, и не хотят понимать. Единая Франция — понятие военное и политическое, но пикардийский трактирщик — прежде всего пикардиец, для него и парижанин — иностранец. А хилый, застенчивый до надменности северянин вдвойне чужак. Времена суровые, сентиментальность отнюдь не в моде, и обидно смеяться умеют повсюду. Труден путь до Парижа.