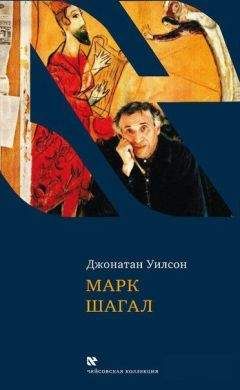В марте 1942 года Пьер Матисс устроил в Нью-Йорке впечатляющую выставку европейцев, осевших в Нью-Йорке, под названием «Художники в изгнании». На групповом снимке, сделанном для каталога выставки, мы видим консервативно одетых и причесанных мужчин, больше похожих на руководителей какой-то компании, чем на художников-радикалов. Только Шагал, в ярком клетчатом шейном платке, и Леже, который предпочел прийти вовсе без галстука, немного напоминают былую парижскую богему. На фотографии все они выглядят как добрые друзья, но это лишь видимость. Как только щелкнула камера, вспоминал Матисс, начались привычные упреки и раздоры.
В Нью-Йорке Шагал больше ощущал себя русским, нежели французом, а временами даже более русским, чем евреем. Такая переменчивость вообще была ему свойственна. К тому времени, когда Шагалы обосновались в Нью-Йорке, Гитлер нарушил договор со Сталиным и Советский Союз сражался на стороне правых сил. Теперь Марк и Белла могли открыто говорить о любви к своей покинутой Родине, особенно к Витебску. И меньше стали интересоваться событиями во Франции.
В 1943 году по поручению советского правительства поэт Ицик Фефер и актер Соломон Михоэлс отправились с пропагандистской миссией в Нью-Йорк. Их задачей было убедить американских евреев поддержать Советский Союз в борьбе с фашизмом — и в том числе собрать средства на дополнительное вооружение Красной армии.
Шагал знал Фефера и Михоэлса еще со времен работы в Москве и в Нью-Йорке всячески защищал старых друзей, когда их называли сталинскими марионетками и даже шпионами (что на самом деле соответствовало действительности, в то время иначе и быть не могло). Незадолго до того Шагал стал членом только что созданного Комитета еврейских писателей, художников и ученых, естественно антифашистской направленности, в результате им заинтересовалось также якобы антифашистски настроенное ФБР. Архивные материалы ФБР из дела Шагала, которые не так давно разыскал Бенджамин Харшав, можно было бы читать как занятный и нелепый бюрократический роман, если б не знать, сколько человеческих судеб было порушено такими вот отчетами. Комитет еврейских писателей, художников и ученых, возглавляемый Альбертом Эйнштейном, говорилось там, на самом деле «коммунистическая организация для ведения расовой агитации», а так называемая «красная» деятельность Шагала заключалась в том, что он участвовал в одной выставке в Риверсайде, которую частично спонсировал Комитет негритянского искусства. Шагал временами проявлял поразительную наивность и по отношению к американским ультраправым, и к манипуляциям сталинского НКВД. Возвращаясь в Москву, Михоэлс и Фефер увозили с собой две подаренные Шагалом картины — чтобы выставить их в московских музеях — с прочувствованным, но крайне сентиментальным посвящением: «России, которой я обязан всем, что сделал за последние тридцать пять лет и еще сделаю в будущем». Картины никто выставлять не стал, а посланцы, как шекспировские Розенкранц и Гильденстерн, через некоторое время были убиты.
Весной 1942 года в Европе уже вовсю шло массовое истребление евреев. В лагере смерти Собибор только в мае в газовых камерах погибли 30 000 евреев. Месяцем раньше руководитель одного карательного отряда докладывал результаты пяти месяцев работы в Крыму: убиты 91 678 евреев. Об истинном масштабе злодеяний мало кто тогда знал. Евреи в неоккупированной части Европы и в Америке жили как обычно, занимаясь каждый своими делами или отдыхая в часы досуга, — они, конечно, помнили о нависшей над остальным миром угрозе, однако не знали всей правды о зверствах нацистов.
Шагал, можно сказать, один из уцелевших, открыл для себя Мексику. Его попросили подготовить эскизы декораций к гастрольному спектаклю «Алеко» в исполнении труппы Городского балета Нью-Йорка. Но поскольку бывший советский уполномоченный по делам искусств не состоял ни в одном творческом союзе, который работал бы в американском театре, пришлось всей труппе перебраться через границу, чтобы художнику было легче освоиться. В Мексике Шагал сразу влюбился в экзотические цвета и обилие света — такое было бы возможно и в Палестине, если б сложные отношения между его еврейским воображением и еврейской реальностью не вытравили все эмоции из его палестинских картин. Декорации Шагала к «Алеко» (балет на музыку П. И. Чайковского по поэме А. С. Пушкина, хореография Леонида Мясина), в том числе потрясающий оранжевый и красно-золотой задник, изображающий пылающий закат над пшеничным полем, стали главным украшением спектакля. Восьмого сентября на премьере во Дворце изящных искусств в Мехико Шагала много раз вызывали на бис восторженные зрители, среди которых были мастера монументальной живописи — мексиканские художники Диего Ривера и Хосе Клементе Ороско.
Месяц спустя состоялась американская премьера «Алеко» — в «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, и снова Шагал стал главным героем вечера. Когда-то в московском Еврейском театре Шагал мазал краской даже лица актеров, чтобы подогнать их под свою художественную концепцию, однако его декорации и костюмы к этому балету оказались почти столь же дерзкими и неожиданными. И в этом художника едва ли стоит винить: когда нанимаешь великого живописца, в работах которого изначально присутствует театральность, не стоит ждать от него неукоснительного соблюдения канонов жанра: выдающиеся декорации Дэвида Хокни[48], выполненные в 1981 году для спектаклей «Метрополитенопера» «Весна священная», «Песнь Соловья» и «Царь Эдип», — еще одно подтверждение этого правила.
Более двух лет Марк и Белла прожили в Америке — здесь они чувствовали себя в безопасности, но отнюдь не безмятежно. И эта двойственность ощущения проявлялась в творчестве Шагала — он продолжал создавать и прелестные гравюры с циркачами, и мрачные полотна с распятыми людьми и пылающим Витебском. И если для Шагала Иисус — символ мученичества евреев в Европе, то Витебск — собирательный образ всех еврейских городов и сел, уничтоженных немецкими захватчиками. На картине «Война» (1943) — зимний заснеженный город, горят дома, все небо в желтых огненных сполохах, от жара развеваются огненно-рыжие волосы кормящей матери; на опустевшей улице, раскинув руки, лежит убитый — как усопший на картине 1908 года «Покойник». Вдали маршируют солдаты, и еврей, прихватив скудные пожитки, спасается бегством, вздыбившаяся лошадь с петухом на спине тщетно пытается оторвать от земли тяжелую телегу — в мечтах она преображается в огненную колесницу Ильи-пророка, устремленную ввысь.
Шагал теперь проводил лето возле тихого озера Крэнбери к северу от Нью-Йорка и наслаждался сельской идиллией. Хоть и не родная деревня, но коровы там были. Здесь Шагал написал несколько мирных буколических картин — и маслом, и гуашью. На одной из них, которая так и называется «Озеро Крэнбери» (1943), деревня — совсем как какое-нибудь село в российской глубинке, возле еврейского штетла. В северной части штата Нью-Йорк были еврейские общины — например, в Катскильских горах, но озеро Крэнбери, чуть дальше к северу, не являлось одним из таких мест. Шагалы не ездили в Катскильские горы, чтобы поучаствовать в уличных народных танцах или послушать Рэда Баттонса[49] в одном из курортных отелей «еврейских Альп», или, как их еще называют, «борщкового пояса» — излюбленных мест загородного отдыха нью-йоркских евреев. Однако вскоре они убедились, что антисемитизм процветает не только в Европе: в одной из гостиниц на озере Бивер Белла заметила лаконичную, но весьма красноречивую надпись: «Не для евреев», — видимо, супругам позволили там остановиться только из-за того, что Шагал как-никак знаменитость.
25 августа 1944 года войска союзников освободили Париж. Эту радостную новость Шагалу сообщил его зять Мишель Горди, который тогда работал в Вашингтоне на радиостанции «Голос Америки» (Мишель Рапопорт сменил фамилию на Горди в конце 1940 — начале 1941 года, поскольку был участником французского Сопротивления и не хотел подвергать риску своих родителей). Первой мыслью Беллы было: как можно скорее вернуться во Францию. В Америке она так и не смогла освоиться, тосковала по Франции, по России. Видимо, предчувствуя горькое изгнание, она еще во Франции начала писать мемуары. Не на русском (хотя знала его куда лучше, чем муж), а на идише, языке детства, — фразы свободно ложились на белые листы, словно тот мир, который окружал ее и Марка в далекой юности, можно было воссоздать только на идише. А Шагал, если можно так выразиться, продолжал рисовать на идише — о чем можно судить хотя бы по настроению картины «Озеро Крэнбери».
Шагалы решили, что за неделю успеют собраться и вернуться в Нью-Йорк. А после этого — в Париж. Однако их планам не суждено было сбыться. Белла заболела, подхватила стрептококковую инфекцию. Пенициллин тогда был большой редкостью — в военное время антибиотики предназначались для воюющей армии — и после нескольких дней болезни, 2 сентября, Белла умерла. Некоторые обстоятельства, связанные с ее смертью, до сих пор неясны, но, судя по тому, что рассказывали знакомые Беллы и сам Шагал, есть основания полагать, отчасти эта трагедия случилась из-за антисемитизма. По одной версии, Беллу почему-то отказались принять в местной больнице, по другой версии — Белла сама отказалась: в ее воспаленном, лихорадочном сознании ожили детские страхи, вспомнилась зловещая табличка в гостинице — и она не хотела ложиться в католическую больницу. Ей было сорок девять лет.