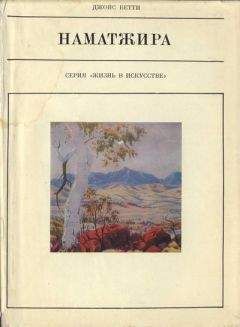За исключением этого печального свидания, Альберт жил день за днем без особых происшествий, тревог и неприятностей. За полтора месяца его имя ни разу не появлялось в газетах, хотя какой-то самолет, как считали, зафрахтованный не теряющим надежды на сенсацию фоторепортером, низко подолгу кружил над Папуньей.
Вскоре, надо же было так случиться, в Папунье произошла стычка между членами племени, во время которой два туземца были убиты и многие ранены. Некоторые газеты намекали, что стычка как-то связана с угрозами племени питженжара Наматжире. В связи с распространившимися об этом инциденте домыслами член парламента от Северной Территории лейборист Дж.-Н. Нельсон запросил официальных разъяснений на сей счет от министра по делам Территорий. Министр Хэзлак выразил сожаление по поводу чрезвычайно преувеличенных, а сплошь и рядом просто ложных сообщений. Он заявил, что, как только появились подобные сообщения, он пытался опровергнуть их, восстановить истину и представить подлинные факты и, хотя некоторые газеты отреагировали должным образом, нашлись такие, которые, вероятно, придерживаются принципа, что не следует правдой портить хорошую выдумку. На самом деле беспорядки были простой ссорой в племени пинтуби и не имели никакого отношения к Наматжире, который в это время сопровождал Фица в инспекционной поездке в Хааст-Блафф.
Приближался срок освобождения Альберта, поэтому, боясь шумихи, которую часто поднимали вокруг Наматжиры, были предприняты все меры предосторожности, чтобы о нем не просочилось в печать никакой информации. Учитывая безукоризненное поведение Альберта, трехмесячный срок заключения сократили ему на один месяц и дату выхода на свободу назначили на 18 мая. Детали, связанные с освобождением, были переданы по радио специальным кодом, предварительно согласованным между надзирателем тюрьмы в Алис-Спрингсе и Фицем.
Формальное освобождение должно было произойти из алис-спрингской тюрьмы, поэтому его предстояло везти в город. По пути в Алис-Спрингс Фиц заехал в Хермансбург с тем, чтобы дать телефонограмму в тюрьму. Рубине ничего не сказали о том, что Альберт поедет через Хермансбург, но, увидев грузовики Папуньи, а затем и самого Альберта в кабине, она вне себя от радости бросилась к нему. Припав к руке Фица, Рубина, обливаясь слезами, благодарила его за то, что он привез к ней Альберта. Стоило большого труда объяснить ей, что Альберт еще не свободен, что ему придется поехать в Алис-Спрингс, чтобы получить официальное освобождение, и что только тогда он будет волен вернуться в Хермансбург. Рубина выразила желание приехать в Алис-Спрингс, чтобы быть рядом с супругом, когда он выйдет из тюрьмы. Фиц заверил ее, что он договорится об этом с главой миссии. После этого он и Альберт тронулись в путь.
Грузовик скрылся из виду, а Рубина еще долго глядела на пыльную дорогу. Близился конец одиночеству и несчастьям прошедшего года. Она ждала этого с характерной для аборигенок верностью и теперь надеялась, что у них начнется новая жизнь. В течение тридцати восьми лет супружеской жизни ни нищета, ни голод, ни болезни, ни потеря четырех детей не смогли подорвать прочность их союза. Но там, где оказались бессильными несчастья, сделала свое черное дело цивилизация белого человека. Он заблудился в незнакомом ему мире денег, лести и поклонения столиц. Он был сбит с толку порядками и обычаями, которых не понимал. У Рубины не было такого тесного, как у Альберта, контакта с цивилизацией белых, не было у нее и иллюзий в отношении «привилегии» принадлежать к ней. Полное гражданство принесло только несчастья. Законы, которых ни он, ни она не понимали, не только не улучшили их участь, а, наоборот, испортили им жизнь. Теперь же зародилась надежда. Рубина знала, что в Папунье об Альберте умно и умело заботились его старые и надежные друзья и что их влияние пошло ему на пользу. Она также знала, что теперь он вернется в свой родной край и что в оставшиеся годы они, может быть, вновь обретут покой и счастье.
Утром 19 мая Альберт вышел из обнесенной высокой стеной алис-спрингсской тюрьмы. У ворот его встречали Рубина и члены семьи. Они хотели сразу же забрать его в Хермансбург. Однако Альберт отказался, сославшись на то, что у него есть дела в городе, которые надо срочно уладить, и попросил отвезти его к своему поверенному по налоговым делам Оуэпу. Он расстался с семьей, пообещав, что вернется в миссию на такси.
Оуэн, ничего не знавший об освобождении Альберта, был удивлен, увидев его. Но еще больше удивился, когда тот сказал, что хотел бы обсудить с ним ряд деловых проблем. До сих пор Альберт мало интересовался состоянием дел и не утруждал себя заботами о них. «Вы уж уладьте все, мистер Оуэн, я на вас полагаюсь», — обычно говорил он, отмахиваясь от всяких дел.
Альберт всегда был небрежен в делах и никогда не знал ни своих доходов, ни числа проданных картин, ни комиссионных посреднику и многого другого, что интересует налоговых инспекторов. Теперь же он, похоже, хотел привести дела в порядок. Альберт захотел распутать с налоговым управлением вопрос о размерах комиссионных, выплачивавшихся посреднику, — здесь не совпадали какие-то данные. Другой мучившей его проблемой была огромная задолженность за ремонт грузовика. Он заявил, что хотел бы оплатить этот счет, но у него нет денег, так как какое-то время он ничего не зарабатывал. Интересовался он также и контрактом с сиднейским посредником, по которому он был обязан поставлять определенное число картин в год.
«Даже перед тюрьмой меня не всегда тянуло писать, — объяснял Альберт устало. — Нужно настроение, я не могу делать картины, как машина. Тогда они получаются плохие». Когда Оуэн спросил, не появилось ли у него сейчас желания заняться картинами, Альберт ответил: «Пока еще не могу писать. Еще очень тяжело на душе. Поживу со своими в родном краю, тогда, может быть, и займусь ими». На вопрос о том, где он собирается жить, Альберт ответил, что ему предлагают дом в Папунье, но он еще не уверен, примет ли он это предложение. «Сперва я еду в Хермансбург, в край моего отца. Это и мой край. Вряд ли я смогу быть счастливым сейчас где-нибудь в другом месте!»
Глядя на печального аборигена, Оуэн вспомнил стихи Вальтера Скотта из «Песни последнего менестреля»:
«Нет такой силы под Луной,
Чтоб стать меж мною и тобой,
Мой край суровый и родной!»
Вдруг Альберт поднялся, протянул руку и, поспешно попрощавшись, ушел. Внезапный уход поразил и встревожил Оуэна, вызвав у него какое-то необъяснимое предчувствие. Постояв, он прошел в контору, где на стене висела одна из ранних работ Альберта. Оуэн часто сожалел, что не покупал поздних работ, написанных, когда Альберт достиг вершины мастерства. Эта маленькая акварель была очень дорога ему: простому рисунку и мягкому колориту, быть может, и недоставало зрелой уверенности поздних работ, но эта картина свидетельствовала о любви к живописи ради самой живописи, а не ради денег на оплату долгов.
А тем временем Альберт уже был у другого своего друга — мистера Рега Веррана, который пересылал работы Альберта посреднику в Сидней. Он не меньше Оуэна удивился несвойственному Альберту интересу к собственным делам. Альберт хотел точно знать, сколько работ продано в Сиднее, и выражал настойчивое желание привести свои дела в полный порядок. Что же касалось планов на будущее, то создалось впечатление, что они его совсем не интересовали. После разговора Альберт вызвал такси и отбыл в Хермансбург. Верран глядел вслед удаляющемуся такси и никак не мог отделаться от тревожной мысли, что он никогда уже более не увидит этого старого человека.
Странное поведение Альберта, вызвавшее у двух его белых друзей грустные предчувствия, было отмечено также родными и главой Хермансбургской миссии. После возвращения Альберта к старому очагу его семья и пастор Шерер делали все, чтобы пробудить его к жизни. Но Альберт оставался безучастным ко всему и целыми днями сидел у хижины, в которой поселился с Рубиной. В конце концов под влиянием пастора Шерера он принял предложение относительно дома в Папунье.
В Папунье Фицы сделали все, чтобы Альберту и Рубине жилось в их новом доме как можно уютнее и удобнее. Рубина не знала, как благодарить их, но Альберт, все еще погруженный в летаргию, предпочитал одиночество. Часами сидел он, устремив взгляд вдаль. Но вот мало-помалу у него стал пробуждаться интерес к живописи. Он даже принимался писать, но, едва начав картину, впадал в какой-то транс и уже не делал ни одного мазка за день; дождавшись заката, Альберт любовался багряными горами, отбрасывавшими длинные тени на красные равнины. А когда неожиданно налетавший холодный ветер пустыни и быстрокрылые птицы, ищущие укрытия на ночь, выводили его из задумчивости, собирал краски, кисти, брал неоконченную работу и тащился домой.