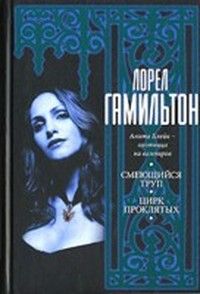и возникаешь в сумерках, как свет в конце коридора, двигаясь в сторону площади с мраморной пиш. машинкой =
читателю непонятны, если он не знает, что виа Джулиа == одна из старинных улиц в Риме, названная в честь папы Юлия II, что пиш[ущей] машинкой римляне называют нелепый мраморный дворец, модернистски-античную
помпезную стилизацию, воздвигнутую на площади Венеции в ХХ в. Но этого мало: надо увидеть вечернее освещение арки в конце этой узкой и почти всегда темной, как коридор, улицы. Итак, исходную вещь мало назвать == ее надо ощутить. Она не идея и не слово. Словом она не передается, а остается за ним, данная лишь в личном и неповторяемом контакте. Но эта предельная конкретность - лишь начало бытия, которое заключается в ее уходе, после которого остается издырявленное пространство. И именно дыра == надежнейшее свидетельство, что вещь существовала. Вновь повторим:
Чем незримей вещь, тем оно верней, что она когда-то существовалаИ ("Римские элегии", XII)
Силуэт Ленинграда присутствует во многих вещах Бродского как огромная дыра. Это сродни фантомным болям == реальной мучительной боли, которую ощущает солдат в ампутированной ноге или руке. 4.3. Таким образом, вещь обретает "реальность отсутствия" (снова вспомним: "Материя конечна, / Но не вещь"), а пространство - реальность наполненности потенциальными структурами. Платоновское восхождение от вещи к форме есть усиление реальности. Уровни принципиально совмещены, и ощущаемая вещь столько же реальна, как и математическая ее формула. Поэтому в математическом мире Бродского нет табуированных вещей и табуированных слов. Слова, "не прорвавшиеся в прозу. / Ни тем более в стих" соседствует с абстрактными логическими формулами. 5. Уходу вещи из текста параллелен уход автора из создаваемого им поэтического мира. Этот уход опять напоминает контур вырезанной из фотографии фигуры, так как на месте автора остается его двойник == дырка с его очертаниями. Поэтому такое место в стихотворениях цикла занимают образы профиля и отпечатка. Это =
тело, забытое теми, кто раньше его любил. ("Полдень в комнате", XI)
Город, в чьей телефонной книге ты уже не числишься. ("К Урании")
Тронь меня == и ты тронешь сухой репей, сырость, присущую вечеру или полдню, каменоломню города, ширь степей, тех, кого нет в живых, но кого я помню. ("Послесловие", IV)
Теперь меня там нет. Означенной пропаже дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже. Отсутствие мое большой дыры в пейзаже не сделало; пустяк; дыра, но небольшая... ("Пятая годовщина")
...Плещет лагуна, сотней мелких бликов тусклый зрачок казня за стремленье запомнить пейзаж, способный обойтись без меня. ("Венецианские строфы" (2), VIII, 1982)
Из забывших меня можно составить город... ("Я входил вместо дикого зверя в клетку...")
И если на одном конце образной лестницы "я" отождествляется с постоянным в поэзии Бродского лицом романтического изгнанника, изгоя, "не нашего" ("Развивая Платона", IV), который == "отщепенец, стервец, вне закона" ("Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве..."), то на другом появляется:
Нарисуй на бумаге пустой кружок, Это буду я: ничего внутри. Посмотри на него и потом сотри. ("То не Муза воды набирает в рот...")
5.1. В стихотворении "На выставке Карла Вейлинка" воссоздается картина, в которой степень абстрактности изображенного позволяет воспринимать его как предельную обобщенность самых различных жизненных реалий, одновременно устанавливая структурное тождество разнообразных эмпирических объектов. Каждая строфа начинается новой, но одинаково возможной интерпретацией "реального содержания" картины:
Почти пейзаж... <...> Возможно, это == будущее... <...> Возможно также == прошлое... <...> Бесспорно == перспектива. Календарь. <...> Возможно == натюрморт. Издалека все, в рамку заключенное, частично мертво и неподвижно. Облака. Река. Над ней кружащаяся птичка. <...> Возможно == зебра моря или тигр. <...> Возможно == декорация. Дают "Причины Нечувствительность к Разлуке со Следствием"... <...> Бесспорно, что == портрет, но без прикрас...
И вот весь этот набор возможностей, сконцентрированных в одном тексте, одновременно и предельно абстрактном до полной удаленности из него всех реалий и парадоксально предельно сконцентрированном до вместимости в него всех деталей, и есть "я" поэта:
Что , в сущности, и есть автопортрет. Шаг в сторону от собственного тела, повЧрнутый к вам в профиль табурет, вид издали на жизнь, что пролетела. Вот это и зовЧтся СмастерствоСИ Итак, автопортрет:
способность == не страшиться процедуры небытие == как формы своего отсутствия, списав его с натуры. ("На выставке Карла Вейлинка", 1984)
Отождествив себя с вытекаемой вещьЧ, Бродский наделяет "дыру в пустоте" конкретностью живой личности и == более того == обьявляет еЧ своим автопортретом:
Теперь представим себе абсолютную пустоту. Место без времени. Собственно воздух. В ту. и другую, и в третью сторону. Просто Мекка воздуха. Кислород, водород. И в нЧм мелко подЧргивается день за днЧм одинокое веко. ("Квинтет", V )
5.2. Было бы упрощением связывать постоянную для Бродского тему ухода, исчезновения автора из "пейзажа", вытеснение его окружающим пространством только с биографическими обстоятельствами: преследованиями на родине, ссылкой, изгнанием, эмиграцией. Поэтическое изгойничество предшествовало биографическому, и биограия как бы заняла место, уже приготовленное для неЧ поэзией. Но то, что без биографии было бы литературным общим местом, то есть и началось бы, и кончалось в рамках текста, "благодаря" реальности переживаний "вырвалось" за пределы страницы стихов, заполнив пространство "автор == текст == читатель". Только в этих условиях автор трагических стихов превращается в трагическую личность. Вытесняющее поэта пространство может конкретезироваться в виде улюлюкающей толпы1: И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж, подрывную активность, бродяжничество, менаж-а-труа и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала, тыча в меня натруженными указательными: СНе наш!С я бы в тайне был счастливИ ("Развивая Платона", IV )
Эту функцию может принять на себя ираническая власть, "вытесняющая" поэта. Но, в конечном счЧте, речь идЧт о чЧм-то более общем == о вытеснении человека из мира, об их конечной несовместимости. Так, в "Осеннем крике ястреба" воздух вытесняет птицу в холод верхних пластов атмосферы, оставляя в пейзаже еЧ крик == крик без кричавшего (ср. "мелко подЧргивающееся веко" в абсолютной пустоте): "Там, где ступила твоя нога, возникает белые пятна в картине мира" ("Квинтет"). Однако "вытесненность" поэта, его место "вне" - не только проклятие, но и источник силы == это позиция Бога:
Мир создан был для мебели, дабы создатель мог, взглянув со стороны на что-нибудь, признать его чужим, оставить без внимания вопрос о подлинностиИ ("Посвящается стулу")
Тот, кто говорит о мире, должен быть вне его. Поэтому вытесненность поэта столь же насильственна, сколь и добровольна. Пустое пространство потенциально содержит в себе структуры всех подлежащих строению тел. В этом смысле оно подобно божественному творческому слову, уже включающему в себя все будущие творения и судьбы. Поэтому пустота богоподобна. Первое стихотворение сборника, представляющее как бы эпиграф всей книги, завершается словами:
И по комнате точно шаман кружа, я наматываю как клубок на себя пустоту еЧ, чтоб душа знала что-то, что знает Бог.
6. Вытеснение вещей (= реальности авторского лица), вызывающее образ стирания зеркального отражения лица == соскрЧбывания с зеркала амальгамы, есть Смерть:
Мы не умрЧм, когда час придЧт! Но посредством ногтя с амальгамы нас соскребЧт какое-нибуть дитя! ("Полдень в комнате")
Образ этот будет возникать в стихотворениях цикла как лейтмотив:
амальгама зеркала в ванной прячетИ Исовершенно секретную мысль о смерти. ("Барбизон Террас" )
Смерть == это тоже эквивалент пустоты, пространства, из которого ушли, и именно она == смысловой центр всего цикла. Пожалуй, ни один из русских поэтов, кроме гениального, но полузабытого СемЧна Боброва, не был столь поглощЧн мыслями о небытии == Смерти. 6.1. "Белое пятно" пустоты вызывает в поэтическом мире Бродского два противопоставленных образа: опустошаемого пространства и заполняемой страницы. Не слова, а именно текст, типографский или рукописный, образ заполненной страницы, становится, с одной стороны, эквивалентом мира, а с другой == началом, противоположным смерти:
Право, чем гуще россыпь чЧрного на листе, тем безразличней особь к прошлому, к пустоте в будущем. Их соседство, мало проча добра, лишь ускоряет бегство по бумаге пера ("Строфы", XII )
И мы живы, покамест есть прощенье и шрифт ("Строфы", XVIII )
амальгама зеркала в ванной прячет сильно сдобренный милой кириллицей волапюк ("Барбизон Террас" )
Если что-то чернеет, то только буквы. Как следы уцелевшего чудом зайца. ("Стихи о зимней компании 1980-года", VII )