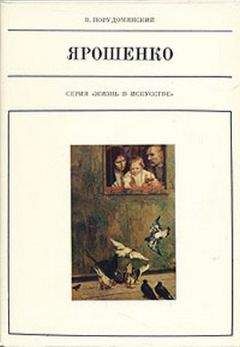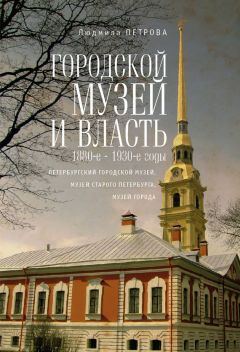Вряд ли большинство зрителей достаточно четко помнит все подробности полотна и не мелочи, даже самые существенные подробности: лица, образы, положение каждого из людей, изображенных художником, но и тюремный вагон, арестанты в окне, ребенок за решеткой, кормящий вольных голубей, — вот это горькое, больное, привычное для русского сердца, как песня, как пословица, запрещающая от тюрьмы и от сумы зарекаться, это и остается в душе, как песня, как пословица, памятью сердца: можно неточно помнить мотив, слова, расположение их — суть давно и навсегда стала частицей нашего «я».
Здесь, наверно, одна из причин безгранично широкой известности картины, ее долголетия — не музейного, но долгой жизни в людях, в народе и в каждом человеке, с ней однажды соприкоснувшемся, общего для всех ощущения ее значительности и многозначности ее восприятия.
Как они за решетку попали
«Преступники — тоже люди», умиленные преступники — вот, пожалуй, первое приходящее на ум слово, когда встречаешься с ярошенковским полотном. Могла быть и такая картина, но такой «иероглиф» слишком легко расшифровывается, слишком однозначен; подсмотренная жанровая сценка, а не обобщение. Умиление преступников — тема уцелевшего эскиза; путь от эскиза к картине — путь к обобщению.
Некоторые критики упрекали Ярошенко в идеализации изображенных лиц. Другие, наоборот, и эти («идеализированные»?) лица находили «зверообразными», «звероподобными». Но в том и удача картины, что Ярошенко нашел «золотое сечение»: лица жизненны, простонародны, красивы; красота лиц не в их чертах, а в чувстве, на них выказавшемся. Идя от эскиза к картине, Ярошенко уходил от черт «преступности» в изображенных лицах. Не умильная улыбка, вдруг озарившая лицо злодея, волновала воображение художника, а добрые обыкновенные лица обыкновенных добрых людей, волею судьбы оказавшихся по ту сторону решетки.
Обитатели арестантского вагона ничем кроме одежды и выстриженных наполовину голов не отличаются от тех, кто смотрит на них, стоя перед холстом. Радость, доброта, умиление при виде ребенка, кормящего птиц, — не исключительное, а обычное их душевное движение. Исключительное — зарешеченный прямоугольник окна, отделивший именно этих людей от остального мира.
Зрители подчас принимались додумывать прошлое героев картины, сочиняли «истории», приведшие за решетку женщину с ребенком или бородатого старика крестьянина, — «истории» обычно соответствовали народному представлению об арестантах: преступники, а не виноваты, не злой умысел — жизнь довела. Путь от эскиза к картине — путь от узкого обывательского «и преступники чувствовать умеют» к выстраданному народному представлению об арестантах как о «несчастных», которых жизнь «довела», искалечила, потому что такая жизнь.
Через два года после появления картины «Всюду жизнь» Чехов совершит свое поразительное путешествие на Сахалин, чтобы с цифрами и фактами в руках доказать жестокость и бессмысленность того, что одни люди присвоили себе право распоряжаться свободой и жизнью других людей в стране, где нет ни права, ни свободы, где всякая попытка освободиться от тюрьмы повседневной оборачивается или считается преступлением и заканчивается в тюремном здании с решетками на окнах, где неправедные судьи судят по неправедным законам, где, по словам Чехова, «сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски», «гоняли по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников…».
Народное представление о «несчастных» — арестантах — рождалось несправедливостью общественного уклада, понимание этой несправедливости в свою очередь рождало отношение к жертвам царского суда как жертвам произвола.
Ярошенко ничем не обмолвился, что люди, пересылаемые в тюремном вагоне, не совершали никаких преступлений, что они в юридическом смысле невиновны; но зритель чувствует невиновность этих людей, если судить их не по законам самодержавной Российской империи, а по законам справедливости и совести: живи эти люди другой жизнью, они никогда не совершили бы преступления. То, что иным показалось идеализацией образов, было уточнением замысла.
«За решеткой в окне вы увидите святое семейство, — писал художественный критик Ковалевский. — Мадонну, худую и бледную, держащую на коленях младенца Спасителя с простертою для благословения ручкой и возвышающуюся позади фигуру лысого Иосифа». Стасов тоже нашел в картине изображение «средневековой мадонны». Сам Ярошенко «мадонну» не отрицал; возможно, и словцо-то он сам первый и обронил.
— Что вы пишете? — спрашивали художника, когда картина не была еще окончена.
И он, улыбаясь, отвечал:
— Мадонну…
«Мадонна», «святое семейство» — символы нравственной чистоты, непорочности.
«Но как же это святое семейство за решетку-то попало?» — иронизировал Ковалевский. И задавал, по существу, самый важный вопрос.
Картина может показаться идеализированной, сентиментальной, если взглянуть на нее вполглаза, не увидеть, не почувствовать главного, разглядеть только, что люди, упрятанные за решетку, тоже способны умилиться, растрогаться, если вопроса — а как же эти люди за решетку попали? — не задавать.
Символы Ярошенко не дешевые аллегории, не бутафория, придуманная ради ловкого выражения некой (весьма ординарной) мысли, символы Ярошенко — обобщенная реальность, реальность, поднятая до символа.
Ребенок в тюремном вагоне во времена Ярошенко не редкость. Женщины с детьми — частые обитательницы каторги и ссылки. Народоволка Якимова была заточена вместе с грудным младенцем в подземный каземат Трубецкого бастиона — она боялась заснуть, чтобы ребенка не съели крысы. Л. Н. Толстой в «Воскресении» рассказывает, как отправляется по этапу партия арестантов: «Некоторые из женщин несли грудных детей за полами серых кафтанов. С женщинами шли на своих ногах дети, мальчики и девочки. Дети эти, как жеребята в табуне, жались между арестантками».
Арестанты, запертые за решетками, и вольные птицы — тоже тема не только песенная: рассказы о птицах, подлетавших к тюремным окнам, ходили устно, попадали на страницы книг и на газетные полосы. Во дворе петербургского тюремного замка стояла издавна построенная голубятня, каждое новое поколение птиц изучало тюремный распорядок — в известное время дня голуби подлетали к окнам и кормились насыпаемыми из-за решеток крошками.
Символы поднимали картину над уровнем жанровой сцены, но не уничтожали впечатления, что картина изображает сцену из реальной жизни.
За решеткой тюремного вагона Ярошенко собрал людей всех возрастов и сословий: бородатый крестьянин, солдат, рабочий, женщина с ребенком, и в глубине вагона, у противоположного окна, спиной к зрителям, — политический (художник написал его в позе своего же «Заключенного», задумчиво глядящего в окно, и тем подсказал зрителям — кто это).
Критик Божидаров толковал «архипередвижницкую» картину «Всюду жизнь»: «Вне этого вагона нет никого, ни души, „все“ там, за решеткой. Вся жизнь наша — тюрьма». И снова критик, опровергая, схватывал, выявлял суть.
Вот если бы художник раздвинул рамки своей картины, мягко стелет критик, показал бы тут же, на перроне, еще какие-нибудь группы, свободные и жизнерадостные, например, «сияющих счастьем» новобрачных (!), тогда мы, и впрямь, увидели бы, что «всюду жизнь». Хитрость в том, что, «раздвинув рамки», художник лишь подтвердил бы, что в России живут рядом злодеи, которые «довели себя» до решетки (о ярошенковском «Заключенном» критик так и говорит: «довел себя человек»), и люди, «сияющие счастьем», что злодеи — несчастное исключение, а не вся Россия, запрятанная в арестантский вагон. Но для Ярошенко его арестанты — именно вся Россия, Россия сломанных судеб, погубленных надежд, Россия тюрем, каторг, ссылки, Россия добрых людей, увы, не сияющих счастьем, однако и не теряющих образа человеческого, красоты души.
Правда жизни и правда искусства
Говоря о картине Ярошенко «Всюду жизнь», принято искать в ней влияние толстовского учения, толстовства.
Авторы работ о художнике подтверждают или опровергают это влияние, иногда спорят друг с другом.
В статье к пятидесятилетию со дня смерти Ярошенко (речь о ней уже шла) сказано, что в картине «Всюду жизнь» «принято видеть проповедь толстовского примирения и непротивления злу насилием. Но не в этом идейный смысл произведения».
Острие спора, видимо, направлено против статьи, помещенной девятью годами раньше на страницах того же журнала «Искусство», в которой утверждалось, что «Всюду жизнь» воплощает «общую идею о могуществе добра и о силе любви к жизни. Внимание к „униженным и оскорбленным“, раскрытие человечности и лучших сторон внутреннего мира во всяком человеке, как бы он ни казался преступным, — это и легло в основу картины Ярошенко. Она пронизана толстовским мировоззрением…».