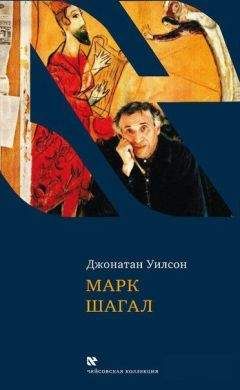17. Счастье
Большая слава означает большие возможности, именно это и случилось с Шагалом на закате жизни. Его талант находил применение в области и светского, и религиозного искусства. Он расписал плафон в парижской Гранд-опера и, может быть, в ответ на вспышку французского консервативного антисемитизма, последовавшую вслед за тем, как министр культуры Андре Мальро объявил, кому поручено выполнить эту роспись (Шагала называли «Бернарден де Сен-Пьер[59] из гетто»), в шутку изобразил среди знаменитых композиторов, актеров и танцовщиков сцену еврейской свадьбы. В 1967 году он создал декорации и костюмы для постановки «Волшебной флейты» Моцарта в нью-йоркском театре «Метрополитен-опера» и две большие стенные росписи для нового здания этого театра, в 1968 году создал витражное панно «Мир» для здания ООН в Нью-Йорке, а чтобы передать сам дух этой организации, подразумевающий слияние множества культур, включил в композицию — характерно, хоть и нелогично — фигуру Христа.
Опыт Шагала с Парижской оперой лишний раз напомнил ему, что для еврея во Франции полная ассимиляция остается чем-то вроде иллюзии. Он говорил живущему в Париже американскому искусствоведу Карлтону Лейку: «Просто поразительно, до чего французы не любят иностранцев. Можно прожить здесь большую часть жизни, стать натурализованным французским гражданином, подарить им двадцать картин для их музеев современного искусства, работать бесплатно, украшая их соборы, и все равно они будут вас презирать. Просто вы не один из них. Так было всегда». Но, даже зная об этом, он по-прежнему охотно делал церковные витражи — к нему обращались со всех концов Франции. Например, в 1970-е, когда ему было уже за восемьдесят, он выполнил триптих для хоров в соборе Нотр-Дам в Реймсе. И опять трудно определить, добавлял ли Шагал этим убранством элементы иудаизма, «приспосабливая» церковь к себе, или, наоборот, христианский мир понемногу приспосабливал его к себе: вероятнее всего, то и другое происходило одновременно.
Помимо этого Шагал сделал витраж для кафедрального собора в Чичестере в Англии, мозаики для Университета Ниццы и Первого национального банка Чикаго, а также витражи для Института искусств в Чикаго. Он также принял, хотя и без особого удовольствия, предложение написать картины для оформления театрального фойе во Франкфурте. Много путешествуя по миру, он отказывался приезжать в Германию, страну, которая убила его прошлое, поэтому есть некая горькая ирония в том, что последние его витражи, созданные в период с 1977 по 1984 год предназначались для трансепта в церкви Святого Стефана в Майнце. Очевидно, Вава на него надавила.
Может, Шагал, как и Пикассо, слишком разбрасывался в последние годы? Влиятельный арт-критик Роберт Хьюз, возможно судивший чересчур строго, настаивал на этом: «Квазирелигиозная образность Шагала, унифицированная и в то же время расплывчатая, годится (требуется лишь добавить что-нибудь: летящую корову, менору) для увековечивания чего угодно, от Холокоста до годовщины банка». Хьюз верно подметил, однако нельзя не восхищаться плодовитостью и энергией творческого духа художника. И еще посмотрим, что создаст сам Роберт Хьюз, когда доживет до девяноста.
В середине 1960-х художнику было уже трудно подниматься по крутой лестнице в свою мастерскую на втором этаже дома в Вансе, и они с Вавой подыскали новый дом в соседнем Сен-Поль-де-Вансе. Там Шагал оборудовал мастерскую, где ему и суждено было работать последние девятнадцать лет жизни. Он имел обыкновение уединяться в доме, когда работал, а еду ему передавали через окошко в стене. Шагал писал, что Вава «заточила» его, но если это и так, то он был счастливым пленником. Иногда он делал передышку и надолго уезжал в Париж, в квартиру на набережной д’Анжу, из окон которой видна была Сена.
Все искусствоведы, даже самые ревностные ценители Шагала, сходятся в одном: большая часть произведений, созданных за последние двадцать лет его жизни, предсказуемы и сентиментальны, этакий калейдоскоп пастелей, спокойных и безмятежных, как мирная пастораль за окнами его студии. Но за окнами его студии были также история и политика — политические события не оставляли его равнодушным. Начало Шестидневной войны[60] в июне 1967 года, например, вызвало у Шагала бурные эмоции, и он сразу же написал на идише два послания: Кадишу Луцу, спикеру израильского Кнессета, с которым у него установились дружеские отношения, и в «Ди голдене кейт». Он выразил обеспокоенность последними новостями и сопроводил все это своими благословениями, «воплощенными в моих витражах о двенадцати коленах». (Пятью годами ранее Шагал был так недоволен презентацией витражей в Иерусалиме, что в гневе швырнул и сломал несколько стульев.) И снова в своих письмах Шагал говорит «наше правительство». Больница находилась на линии огня: четыре витража в Хадассе были повреждены во время Шестидневной войны, и Шагал взамен утраченных сделал новые, их установили через два года, в 1969-м. На трех витражах до сих пор видны следы пуль. К сожалению, витражи Шагала в больнице Хадасса представляют собой печальное зрелище. Тедди Коллек, бывший мэром Иерусалима в то время, когда их устанавливали, признавал, что здание больницы — «позор, это самый неподходящий, унизительный фон для таких потрясающих окон», но винил Шагала за то, что тот не уделил должного внимания планировке. Сегодня маленькую синагогу даже трудно заметить из-за окружающей ее больничной суеты. Вероятно, это одна из самых разочаровывающих достопримечательностей Израиля.
Какими бы тесными ни были связи Шагала с Израилем, однако это не помешало его поездке в СССР в 1973 году — в то время, когда евреи в этой стране были фактически заложниками режима, а Москва поддерживала и вооружала врагов Израиля. Разумеется, Шагал был наивен, согласившись нанести визит: его приезд был только на руку советскому руководству. Из подвала, где они пылились полвека, достали работы Шагала, в том числе «утраченные» панно для Московского еврейского театра, и милостиво предложили художнику их подписать. Но как только Шагал покинул страну, все его работы снова отправили в запасники. И все же это так естественно, что человек, разменявший восьмой десяток лет, захотел снова увидеть страну, где родился и вырос, к тому же Шагалу дали возможность повидаться с двумя его сестрами в Ленинграде.
Живопись Шагала последних лет его жизни, как правило, радостная и оптимистичная (хотя бывали исключения). Выделывают трюки циркачи, парят в воздухе любовники. Не чувствуется горечи оттого, что меркнет свет, но время от времени трагическое прошлое напоминает о себе и бросает тень на его холсты. В таких случаях, как в изображении ада на картине «Война» (1964–1966), прошлое всегда принимает одни и те же очертания: горящего штетла.
На замечательной картине «Падение Икара» (1975), которую Шагал закончил в возрасте восьмидесяти восьми лет, крылатый юноша падает с высоты над густонаселенным еврейским местечком. Контраст между этой картиной и знаменитым «Падением Икара» (1558) Питера Брейгеля разителен. У Брейгеля Икар падает в море где-то на заднем плане, а обычные люди в это время живут своей жизнью, не замечая великой трагедии. В связи с этой картиной У. X. Оден заметил, что старые мастера верно понимали страдание. У Шагала мир реагирует на случившееся еще более странно — и страшно. Толпа слева в ужасе следит за происходящим, люди справа, похоже, больше волнуются из-за обнаженной женщины на крыше, некоторые, задрав головы, смотрят на кувыркающегося в небе безумца, указывают на него друг другу и смеются. По композиции все это чем-то напоминает полотно «Революция» (1937), где красноармейцев отделяет от еврейского местечка заснеженное поле, на котором выделывает акробатические трюки Ленин. В «Падении Икара» разделяющее поле красного цвета, две группы обывателей, как можно догадаться, это мирные евреи и их противники, и если так, то обнаженная женщина на крыше наверняка жертва насилия. Шагаловская трактовка, куда более мрачная, чем у Брейгеля или у Одена, навеяна недавними событиями истории: одни молча следят за собственной трагедией, а другие, напротив, радуются.
Велик соблазн увидеть в таком разделении на полотнах Шагала внутреннее раздвоение — его собственное «распятие», как он это любил представлять. Он сам занимал место между двумя враждебными мирами, которые соединялись лишь на его холстах. В картинах Шагала прошлое и настоящее, мечта и реальность, раввин и клоун, мирское и духовное, революционер и художник, Иисус и Илья Пророк, человек и зверь, Витебск и Париж — все перемешано и образует мир, где не только история и география, но даже законы природы ставятся под сомнение.
И вероятно, в этом смысле для Шагала важнее всего было столкновение, которое он изображал: между происходящим в мире и происходящим на его холстах. В потрясающей поздней работе «Перед картиной» (1968–1971) художник с ослиной головой рисует распятого на кресте человека, кудрями и гладко выбритым лицом более напоминающего древнегреческого бога Аполлона, нежели Христа. Одной, свободной, рукой он прикрывает сердце. Его лицо безмятежно, кажется, он не испытывает боли. На него смотрят два местечковых еврея, мужчина и женщина, вполне может быть, что это его родители. Еще одна женщина держит подсвечник. Верхняя выступающая часть мольберта служит как бы продолжением нарисованного креста. На заднем плане с одной стороны — домики и церкви с куполами, судя по всему, это еврейское местечко в глубинке России, с другой стороны — французская деревня. Летящий ангел изображен так, словно он влетает в картину из реального мира. С краю за мольбертом стоит молодая женщина, ее взгляд устремлен на зрителя. Мир картины с распятием — прошлое — мрачен, в нем преобладают черный и темно-синий цвета. Мир внешний изображен в бледно-голубой и зеленой гамме, он лиричен и причудлив, как счастливый сон. На кресте надпись на иврите: «шин», «алеф», «гимель», «алеф», «ламед», все вместе читается: «Шагал».