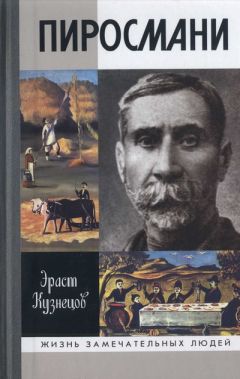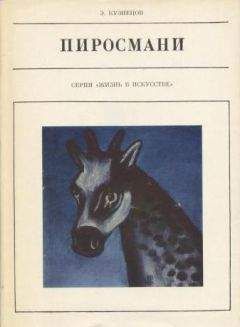Все-таки, воссоздавая реальную жизнь и реальных людей, совсем без «заслонений» обойтись было невозможно, и у Пиросманашвили сами собою выработались любопытные приемы, помогающие ему немного ослабить эффект, чуждый его живописи. Меньший предмет мог оказаться перед большим, потому что при этом не страдали контуры ни того ни другого. Предмет объемный мог заслонять предмет плоский (скажем, бурдюк на фоне скатерти), а более важный, существенный, значимый мог оказаться на фоне менее важного. И уж ни в коем случае оба предмета не могли быть одного или близкого цвета: недаром в «Кутеже пяти князей» светлый кувшинчик поставлен не на фоне светлой стены, а перед князем, одетым в черную чоху, в то время как черные бутылки расставлены именно в промежутках между сидящими.
Преобладание отдельного предмета над средой, то есть единством многих предметов, влияющих друг на друга, и вечной, неизменной сущности — над преходящим состоянием определяет своеобразие живописи Пиросманашвили. Она безразлична ко всему, что составляет достоинство привычной нам живописи, ищущей способов создать впечатление непосредственно воспринимаемой реальности. Художник не воспроизводит то, что отпечатывается на сетчатке его глаз. Он исходит не столько из непосредственно видимого, сколько из своего представления о реальности, ее знания, ее понимания. Он словно творит мир заново в реальной, присущей ему последовательности. Поэтому он сначала пишет дальние предметы, а потом ближние, как бы заслоняя дальние. Изображая накрытый стол, он не пишет одновременно и скатерть, и посуду, как поступило бы подавляющее большинство живописцев, — нет, он сначала «кладет» скатерть, а потом поверх нее «расставляет» бутылки, тарелки.
Такое мировосприятие наивно, но только на первый взгляд. Вернее сказать: его наивность повыше иной умудренности. Детски наивны, простодушны были древние греки. Наивность — это прямота взгляда на мир, игнорирующая все преходящее, случайное, внешнее, жаждущая подлинной сути вещей и уверенная в том, что эта суть доступна.
Очень многое пришло к Пиросманашвили от народного искусства, очень силен был в его картинах голос коллективного, традиционного художественного опыта. Однако между фольклорным мировосприятием и формой станковой картины, которую стихийно освоил Пиросманашвили, несомненно, существует противоречие. У Пиросманашвили оно разрешается своеобразным взаимопроникновением монументально-эпического и станкового начал. Начало станковое, индивидуальное говорит о себе заметным усилением личности автора.
В подлинном народном искусстве, в фольклоре, личность творца растворена; в лучшем случае она дает о себе знать тонкими нюансами — и у сказителя, чуть-чуть по-своему передающего повествование, и у мастера, расписывающего изделие традиционными (даже каноническими) сюжетами, переходящими от поколения к поколению. По этим колебаниям отличают одного талантливого мастера от другого. Но для искусства в целом они не играют существенной роли, они — только составная часть бесконечного коллективного труда, шлифующего формы. Разрывая фольклорный круг, Пиросманашвили закономерно пришел к более явственному выражению своей личности — в противном случае его картины, радуя глаз наивностью и непосредственностью, несли бы в себе духовное содержание не намного большее, чем, скажем, традиционная роспись предметов.
Как резко, даже демонстративно чуждался Пиросманашвили воспроизведения фольклорных тем, образов и ситуаций, так же решительно чуждался он использования ярких этнографических мотивов и приемов традиционного народного творчества — стилизаторства.
Стилизаторство, самое утонченное, неизбежно сопряжено с возможностью расчленения: «это от автора с его личностью», «а это от народного искусства». Ничего подобного не могло быть у Пиросманашвили: глубочайший внутренний такт, инстинкт большого художника подсказывали ему, что прямой перенос образов народного творчества в картину грозит им гибелью. Фольклор был для него не арсеналом, но почвой; фольклорное начало неизменно присутствует в его картинах, но выражается не открыто, а в оттенках восприятия, в характере трактовки, в подтексте изображаемого, независимо от бытовой тематики: это их второй, тайный и неразгаданный смысл. В самом мотиве перенесения кутежа на природу — как бы этот мотив ни обосновывать реалистически и ни связывать с обычаями грузинского народа — у Пиросманашвили постоянно ощущается сказочность: невероятность, фантастичность сопоставления дикой природы и парадного, накрытого стола, словно даже не прямо здесь приготовленного, а неведомым чудом явившегося. Так в сказке дворцы перемещаются с места на место, а герой в мгновение ока оказывается где-то за три-девять земель. Вторая, подчас фантастическая жизнь просвечивает сквозь земную оболочку многих его героев, как будто бы прямо взятых из окружавшей его жизни и перенесенных на клеенку.
Дворник. Художник Н. Пиросмани. Клеенка, масло. Фрагмент Женщина с кружкой пива. Художник Н. Пиросмани. Клеенка, масло. Фрагмент
Знаменитая «Женщина с кружкой пива» — не что иное, как портрет некоей проститутки из ортачальских садов, одной из тех, с кем Пиросманашвили общался, живя в «Эльдорадо» у Титичева. Она совершенно достоверна — со своей короткой шеей и тяжелым подбородком, с неизгладимыми приметами своего ремесла — густо подведенными глазами, пышным бюстом, выпирающим из низкого выреза нарочито яркого красного платья, длинными золотистыми волосами, рассыпанными по плечам. Нет ничего странного и в ее поведении: сидя с кружкой пива за одним из столиков, расставленных в саду, она предлагает себя посетителям. Но, извлеченная художником из своей среды, из пошлого мира садовых дорожек, фонарей, разгуливающей публики, перенесенная в черноту неведомого пространства, окруженная бурно разросшейся сочной зеленью, устремившая свой загадочно-неподвижный взгляд в никуда, она кажется не только реальным человеком, но и фантастическим лесным существом — русалкой, лесной девой, дриадой или, может быть, самой богиней Дали, покровительницей лесов, вод, скал и диких животных, расчесывающей свои длинные золотые волосы над ручьем.
В том же «Эльдорадо» был написан «Дворник». И он — портрет вполне реального человека, служившего у Титичева (дорожа документальностью, Пиросманашвили позаботился даже о том, чтобы тщательно выписать номер «1035» на медной бляхе его фуражки). Но это не просто портрет согнутого старостью и нелегкой жизнью, запуганного и задавленного маленького человека. Дворник — это и носитель власти, представитель законопорядка, он сам — гроза униженных и бездомных. В нераздельной двойственности образа — общепризнанная сила воздействия картины. Однако дело не исчерпывается и этим. Этот дворник, с его диким взглядом из-под козырька, с неукротимой порослью волос, рвущихся из-под фуражки и буйно кустящихся в бороде, напоминает и мифического жителя лесов — какого-нибудь фавна, или лешего, или (если возвратиться на грузинскую почву) зловредного каджи, сплошь поросшего шерстью, или хвостатого кудиани, или бесачинку, обитателя заброшенных домов, или даже очокочи, лесного козлочеловека.
И в герое, казалось бы, бесхитростной зарисовки из сельской жизни, картины «Пастух с отарой», вполне реальном человеке со всеми атрибутами его ремесла — свирелью, длинным крючковатым посохом (выдергивать овец из отары), ружьем за спиной, человеке, возвышающемся над покорно идущим под музыку его свирели стадом, угадываются черты иного существа — доброго великана, покровителя животных, хозяина гор и долин.
А разве персонажи «большого» «Натюрморта», при всей их плотской конкретности и чувственной материальности, не кажутся воплощениями душ или духов изображенных предметов, существующих своей собственной мистической жизнью? И разве не наделен собственной жизнью и, может быть, душой пустой квеври, неожиданно очутившийся на лесной поляне, вдали от марани, для которого предназначен, и ведущий свой тихий, непонятный нам диалог с маленькой обитательницей чащи — лисицей? («Верю, что есть тайный язык у бесполых существ и мертвых предметов и что этот язык значительнее всех живых языков», — обмолвился как-то Николоз Бараташвили.)
Подобные ощущения порой оказываются чрезвычайно сильны, порой слабеют; некоторые картины их могут и вовсе не вызывать, и дело не столько в них, сколько в общей атмосфере, в общем ощущении необычности, загадочности, которое обволакивает едва ли не всякую изображенную Пиросманашвили ситуацию.
Иные из его картин и вовсе остаются закрыты для нас. Сплошной загадкой предстает «Медведь в лунную ночь». Почему художник обратился к этому диковинному сюжету? Куда пробирается медведь — осторожно, но настойчиво? Что за полуразрушенное (или недостроенное) здание виднеется позади (оно не раз появлялось и на других картинах)? Все это вопросы без ответов. Нам дано лишь ощутить ту таинственность, которая исходит от медведя, этого странного существа, сомнамбулически медленно продвигающегося по стволу поваленного дерева и недоступными нашему воображению узами связанного с луной, сияющей в черно-синем небе, с развалинами, взирающими на нас одним настороженным глазом-окном, и с другим деревом, пугающе растопырившим свои мощные голые ветви. Это таинственность существования непонятного нам, жизни, для нас закрытой, таинственность, носящая даже некий мистический оттенок («темный страх ожидания» увидел в ней Кирилл Зданевич[116]).