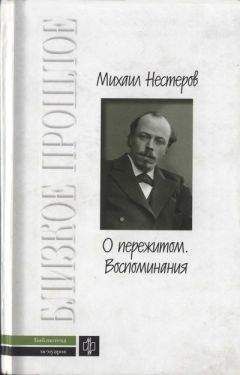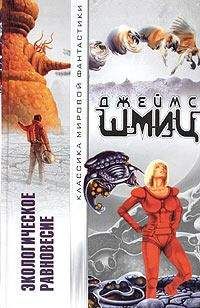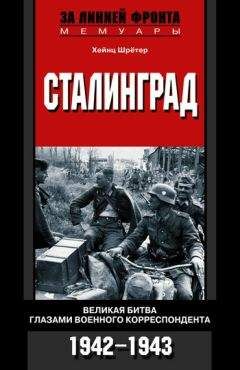Ознакомительная версия.
С болезненной обостренностью воспринимает художник поражение русского флота при Цусиме, не менее остро переживаются им и события первой русской революции. В результате — глубокий душевный кризис, пессимистический взгляд на мир, убеждение, что единственное спасение России и русского народа — в православии. В эти годы он работает над созданием своеобразной картины-манифеста, показывающей путь людей ко Христу. Его позиция в искусстве сосредоточивается в сфере поисков новых средств для воплощения в живописи отвлеченной философской идеи. То, что художник с такой меткостью назвал опоэтизированным реализмом, теперь становится основой трех композиций: «Святая Русь», «Путь ко Христу», «Христиане». Все это, по сути дела, обособляет Нестерова от круга художников и художественных деятелей, с которыми он был ранее близок («Всех моих друзей-почитателей за эти годы я сумел растерять», — пишет он А. А. Турыгину, своему давнему приятелю, в конце 1915 года[14]). Он одинок, и это отчетливо звучит в воспоминаниях. Отсюда и разочарованный, ироничный, иногда желчный тон многих страниц «О пережитом». Однако полны непосредственного чувства и вполне естественного волнения страницы, посвященные встрече его с Львом Толстым. Нестеров не ограничивается здесь «рассказом о прошлом», а приводит свои письма о Толстом, написанные во время пребывания в Ясной Поляне.
Совершенно по-особому воспринимаются впервые опубликованные страницы воспоминаний, полные тепла и подлинного восхищения, посвященные великой княгине Елизавете Федоровне, «одной из самых прекрасных, благородных женщин, каких я знал». Эти страницы являются превосходным и достоверным источником истории создания Марфо-Мариинской обители и работы Нестерова над ее росписями.
Начавшаяся Первая мировая война сближает Нестерова с теми, кто трагически переживает все тяготы, выпавшие на долю русской армии и русского народа. Не случайно именно в это время он сближается с религиозными мыслителями — С. Н. Булгаковым, П. А. Флоренским, В. В. Розановым, С. Н. Дурылиным. Общение с ними пробуждает интерес к острым проблемам общественной жизни, правда, в очень сдержанном аспекте. «Меня политика не занимает. Я не чувствую к ней вкуса. Моя дума всегда одна и та же — чтобы моей Родине жилось полегче, поменьше было войн и иных „потрясений“. Вот и все, о чем я думаю… кроме моего художества, о котором я думаю, мечтаю денно и нощно», — пишет Нестеров в воспоминаниях. В работе над картиной «Душа народа» («Христиане», «На Руси») Нестеров испытывает прежний «азарт», но в углубленной, полной религиозного чувства форме. Однако внешние события художественной жизни волнуют его: например реформы И. Э. Грабаря в Третьяковской галерее. Иногда же ему кажется, что жизнь и творческий путь его уже на исходе, что не прибавляет «оптимизма» последним страницам воспоминаний, которые становятся от страницы к странице «все мрачней и тревожней», а текст лаконичней и суше.
При всех сложностях в жизни Нестерова, тем более что «новая жизнь» послереволюционных лет требовала очень большого напряжения из-за множества изменений в ее внешнем и внутреннем укладе, воспоминания написаны им правдиво и с полной определенностью. У Нестерова нет желания как-то приукрасить свои поступки, смягчить черты своего «неуемного», нелегкого, колючего характера.
С другой стороны, он ничего не изменяет в своих отношениях к людям. Нестеров, человек по натуре страстный, никогда не считал недостатком субъективность в восприятии и оценках событий и современников. Достаточно вспомнить его письмо А. А. Турыгину о книге А. Бенуа «История живописи XIX века». «Думаю, что всякая деятельность, в том числе и „критика“, и история, освещенная талантом, непременно субъективна. Субъективна и книжка А. Бенуа потому, что она написана человеком даровитым, с талантом… Историки Карамзин, Костомаров, Ключевский потому так ярко сияют в исторической науке, что они в высшей мере субъективны. А как возмутительно субъективен великолепный Белинский!»[15] Уместно отметить удивительное качество Нестерова — умение без мелочных обид принять весьма резкую критику своей церковной живописи («Взгляд Бенуа на Нестерова при всей жестокой правде, по-моему, куда проникновеннее, глубже всего того, что о Нестерове говорят и пишут…»[16]).
В литературном плане воспоминания написаны неровно, ибо отражают различие в мироощущении Нестерова на разных жизненных этапах. А писатель он, как можно судить по воспоминаниям, выдающийся. Ему чужды эмоциональная взволнованность, восторженность, репинская «речь впопыхах» в «Далеком близком». Нет у него и яркой своеобразности, сугубой индивидуальности языка Петрова-Водкина. Он принадлежит к мемуаристам, которые пишут просто и предельно ясно. Язык его лаконичен и четок, определения всегда точны и исчерпывающи.
В предисловии к воспоминаниям «О пережитом» Нестеров писал: «Воспоминания, мемуары — удел старости: она живет прошедшим, подернутым дымкой времени». Обычно это так, но его случай представляет в известной мере исключение. Нестеров начал писать свои воспоминания («Мое детство») молодым, тридцатилетним человеком, в середине девяностых годов, пытаясь понять особенности формирования своего пути в искусстве. В двадцатые годы, когда он начинает работать над воспоминаниями систематически и особенно интенсивно, его «старение» как художника было лишь кажущимся: подспудно шла уже напряженная работа, принесшая «второе дыхание» живописцу. И записки, как он называл тогда свои воспоминания, были новой формой выражения его творческих порывов.
Писательский труд всегда привлекал Нестерова, особенно если к нему приводило ощущение внутренней необходимости самовыражения, подобное тому же стремлению к живописи. Уже первый, опубликованный им в 1903 году очерк — о Левитане — показал незаурядное литературное дарование автора.
Напряженная работа над большими картинами, над церковными росписями надолго отрывала Нестерова от собственного литературного труда, от спокойного вглядывания в прошлое. Тем не менее в 1913 году он пишет очерк о Перове, через три года — краткий, но глубоко прочувствованный некролог памяти безвременно ушедшего Сурикова, чуть позднее — статью, воздающую дань «истинному эллину наших дней» профессору А. В. Прахову. Через короткое время он создает небольшой этюд, посвященный большому другу русских художников — Е. Г. Мамонтовой.
К систематической работе над воспоминаниями «О пережитом» Нестеров приступает лишь в 1926 году, в год сорокалетия своей художественной деятельности, в письмах к родным и друзьям он подробно сообщает, как движутся «Записки». «Много теперь пишу. Написал уже о появлении „Пустынника“… следовательно, половину своих воспоминаний написал уже. Потому считаю половиной, что намерен кончить их 17-м годом, когда мне было пятьдесят пять лет. Местами выходит жизненно…» — пишет Нестеров жене из санатория в Гаспре[17], где он в течение двух лет отдыхал осенью и где ему особенно хорошо работалось.
В конце января 1927 года он извещал из Москвы Турыгина: «Мои „воспоминания“ идут, в общем, неплохо. Написано до приглашения меня в Киев. Причем написан ряд этюдов-характеристик приятелей-художников. Некоторые, по отзывам слышавших, удались… В ближайшее время приступаю к Владимирскому собору. Вот там и придется говорить о Васнецове. Ведь там, на лесах собора, произошло наше знакомство. Кроме Васнецова придется вывести ряд лиц, а главное Прахова и его семью. Это задача интересная, хотя и очень трудная. Работаю с интересом. Хотел бы кое-что прочитать тебе…»[18] Еще одно сообщение старому другу: «Пишу я сейчас 1903 год. На днях начну 1904. Письма и помогают, и осложняют многими забытыми подробностями»[19].
Здесь речь идет о весьма важном в технике написания мемуаров Нестеровым обстоятельстве. Во избежание фактических ошибок, для уточнения событий, Нестеров использовал эпистолярные материалы тех лет — свои письма к родным, друзьям и особенно своеобразную летопись, в которую сложились его письма к Турыгину, охватывающие почти полвека их дружбы. Опираясь на них в работе над воспоминаниями и даже частично воспроизводя их, он в то же время не делает это академически педантично.
Письма цитируются не буквально, а с перестановкой слов и даже абзацев, что делает текст воспоминаний более выразительным.
Необходимо отметить, что в последнее десятилетие своей жизни Нестеров был склонен преуменьшать значение своей переписки с А. А. Турыгиным, хотя именно эти письма положены им в основу многих страниц воспоминаний. Перед началом систематической работы над воспоминаниями он писал: «…Сорокалетняя переписка наша — все эти шестьсот-семьсот писем не содержат в себе ни обмена мыслей, или чувств о художестве, или „идеалах“ вообще. Ничего заветного в них говорено не было и писать другу Т<урыгин>у об этом заветном было бы праздным делом. И, однако, в этих письмах проходит вся моя внешняя жизнь, а она все же была полная, разнообразная, деятельная»[20]. Это высказывание кажется не вполне справедливым, ведь именно в письмах Нестеров излагает взгляды на роль художника и на ряд важнейших проблем искусства рубежа столетия. Именно с Турыгиным делится трудностью совмещать церковные работы со «свободной» живописью. Именно ему адресует свои письма о Толстом, подробнейше информирует о ходе работы над своей «главной» картиной десятых годов «Душа народа». Реакция Турыгина на признания и высказывания Нестерова далеко не всегда адекватна им, но тому часто нужен был не собеседник, а просто слушатель, на скромность и преданность которого он мог вполне положиться.
Ознакомительная версия.