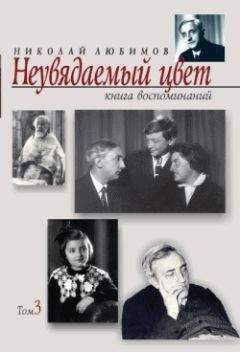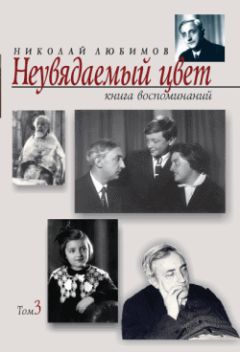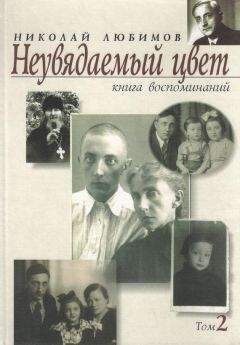В каждом слове этого монолога слышалось упоение, предвкушение ударов топора по деревьям, предвкушение гибели «бесполезной» красоты во имя наживы. И в то же время слышался надрыв, слышалась сумятица, как сказал бы Гоголь, «поперечивающих себе» чувств, ощущение омраченности праздника.
Внезапно взгляд Лопахина – Леонидова падал на плачущую Любовь Андреевну, и куда делся рыкающий зверь! Ведь Лопахин еще так недавно признавался ей, что любит ее «как родную… больше, чем родную». С каким неподдельным участием склонялся он теперь над ней, какие искренние, по-мужски сдержанные слезы сожаления кипели у него в горле, когда он говорил:
– Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. И снова возникает расходившийся купчина, которому никак не унять сейчас хамской своей удали:
– Музыка, играй отчетливо! Пускай все, как я желаю! Грохнул вазу и, уходя, небрежно, с высоты своего денежно-мешкового величия:
– За все могу заплатить! Начинается четвертое действие, и опять по сцене ходит знакомый нам по первым двум актам озабоченный толстосум, удачливый, оборотистый делец и неудачник в личной жизни, как видно, обреченный вековать свой век в тоскливом одиночестве.
Я не боюсь употребить здесь громкое слово: Леонидов играл Лопахина гениально, с рембрандтовской светотенью чувств.
Леонидов назвал себя «трагическим актером в пиджаке». Ему было не очень уютно в роли Пера Гюнта. Вначале он горевал, что роль Гамлета поручена не ему, но перестал об этом жалеть, как только увидел условные декорации Крэга. Леонидов никогда не играл обнаженную страсть.
В Лопахине он был сметливым купцом из средней полосы России, в Плюшкине – русским помещиком, которого источила мания накопления. Его Гобсек – это был французский вариант Плюшкина, и кинозритель ни на мгновение об этом не забывал, как не забывал он и о том, что Роско из фильма «Просперити» – американский капиталист. Когда Леонидов играл Бородина в пьесе Афиногенова «Страх», перед нами был внешне очень типичный ученый, одержимый своей идеей мыслитель, которому всякий раз стоит большого труда спуститься с облаков на землю, рассеянный, душевно незащищенный и вместе с тем своевольный, упрямый, неуживчивый, вспыльчивый. Свой длинный доклад (эпизод тяжелый и неблагодарный для актера) Леонидов произносил с такой убежденностью, мысль и чувство находились у него в такой полной гармонии, что зрители слушали его, замерев. Прав Бородин или не прав – в этом зрители разбирались уже в антракте или по дороге домой.
В булгаковской инсценировке «Мертвых душ» Леонидов играл Плюшкина.
Задача у него была не из легких: от него требовалось создать образ на узком пространстве короткой картины, на пространстве нескольких – впрочем, по-гоголевски наполненных – реплик. И теперь стоит мне вызвать в воображении Плюшкина, стоит прочитать диалог Чичикова с ним – и воображение рисует Плюшкина – Леонидова. Вот он, сгорбленный старостью, с бабьей дряблостью щек, с сильно выдвинутым вперед подбородком, с буравчиками болезненно-недоверчивых глаз, с крючьями вместо пальцев, в чем-то непонятном, по-бабьи повязанном на голове, в каком-то немыслимом по ветхости и бесформенности одеянии…
Лучшие иллюстраторы «Мертвых душ» после Леонидова меня не удовлетворяют.
И как в «Вишневом саде» на фоне лопахинского деловитого спокойствия особенно ошеломляющим был взрыв до времени укрощаемых вулканических сил, так в «Мертвых душах» на фоне омертвелости Плюшкина – Леонидова особенно заметны были проявления давно уже овладевшей им скряжнической страсти.
Проявлялась эта страсть в нем по-разному: и в пытливом взгляде, каким он смотрел вокруг себя, каким он окидывал любого человека, с которым вступал в общение, и каким он в начале сцены сверлил незнакомого ему Чичикова (уж не вор ли? не разбойник ли?), и в смешанном с испугом негодовании на то, что кто-то распускает слухи о его богатстве.
– Мне, однако же, сказывали, что у вас более тысячи душ.
– А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал!
Потом та же страсть («одна», но «пламенная») обнаруживалась в ликующей алчности, с какой он принимал выгодное для него предложение Чичикова, и в той визгливо-плачущей ярости, с какой он накидывался на Мавру, которую заподозрил, что она «подтибрила» у него клочок бумаги, и в том взгляде безумца, с каким он на своем образном языке грозил ей муками ада:
Вот погоди-ка: на Страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками!
Но вот Чичиков уехал, и, говоря словами Гоголя, на «деревянном» лице Плюшкина – Леонидова «скользнул какой-то теплый луч». В его окоченевшей душе возникает желание отблагодарить незнакомца, ни с того ни с сего оказавшего ему услугу.
Я ему подарю карманные часы… – говорил Плюшкин – Леонидов, и по лицу его «скользил теплый луч», подобие доброй улыбки.
Одно мгновение – и кто-то словно сдувал, смахивал улыбку, лицо Леонидова вновь застывало, окаменевало, омертвевало, а в расширенных зрачках загорался огонь уже совсем почти испепелившей его скупости:
Или нет… лучше я оставлю их ему после моей смерти.
Одно из самых горестных театральных моих сожалений – это сожаление о том, что я не видел Леонидова в «Мокром» из «Братьев Карамазовых». Судьба порадовала меня другим.
Так сложились обстоятельства, что 11 декабря 1932 года я видел Леонидова дважды: в Художественном театре, на утреннем «общественном просмотре» «Мертвых душ» в роли Плюшкина, а спустя несколько часов – в зале Политехнического музея, на вечере Достоевского, куда я попал по приглашению Леонида Петровича Гроссмана, предварившего вечер чтением отрывков из своего романа о Достоевском «Рулетенбург», действие которых происходит у Дубельта и на плац-парадном месте.
Сразу после Гроссмана выступил Леонидов. Он прочел заключительную сцену «Идиота», а на «бис» – последнее слово подсудимого, Мити Карамазова.
Я сидел совсем близко к эстраде. Я видел каждую складку на лице и на шее уже немолодого Леонидова – и не видел ее. Я слышал, как он пришепетывает (после перенесенной им тяжелой болезни у него появился дефект речи) – и не замечал пришепетывания. Я видел Митю, о котором Достоевский пишет: «Он был страшно утомлен и телесно и духовно… Он как будто что-то пережил в этот день на всю жизнь, научившее и вразумившее его чему-то очень важному, чего он прежде не понимал… В словах его послышалось что-то… смирившееся, побежденное и приникшее».
Так именно и начинал свой краткий монолог Леонидов – упавшим от всего пережитого голосом. И вдруг его голос приобретал мощь такого громового удара, когда кажется, что огнедышащий небосвод раскалывается прямо над твоей головой:
В крови отца моего – нет, не виновен!!!
Он искренне, от полноты веса своей измученной, исстрадавшейся и размягченной души благодарил и прокурора и защитника, но прокурора – все-таки с едва уловимой иронией:
…многое мне обо мне сказал, чего и не знал я…
А защитника – с чуть заметным укором и с достоинством невинного:
Спасибо и защитнику, плакал, его слушая, но неправда, что я убил отца, и предполагать не надо было!
А к концу монолога голос Леонидова вновь наполнялся громозвучной мощью, как, вероятно, гремел он в Мокром или на допросах:
Но пощадите, не лишите меня бога моего!!!
Гром сменялся прерывистым полушепотом, в котором слышались с нечеловеческим трудом сдерживаемые рыдания:
Тяжело душе моей, господа… пощадите!..
После этого в зале воцарилась поистине мертвая тишина. Вслед за тем грянули аплодисменты. Леонидов несколько раз выходил, кланялся, а у меня не достало сил рукоплескать моему любимцу. Я был ошеломлен, подавлен так, как будто в течение нескольких минут прошел через все Митины мытарства, руки у меня одеревенели, и вместе с тем я почувствовал, точно я омылся, что меня «выпрямило», – словом, я испытал то сложное ощущение, какое испытываю при встрече с великим искусством во всех его разновидностях.
… В дали моего былого мне явственно виден рдеющий отсвет леонидовской, на полнеба раскинувшейся и расколыхавшейся бурнопламенной, отливавшей множеством красок зари.
Москвин разрушил тот образ Луки, который создало мое воображение, и я сдался без внутреннего боя, я тут же безоговорочно капитулировал.
Не так обернулось у меня дело с Фирсом – Тархановым из «Вишневого сада». Мне наглядно показывали, как играл Фирса первый его исполнитель – Артем, и я, увидев Тарханова, обвинил его в излишней сухости, жесткости, что ли. И это обвинение, выдвинутое мною против Тарханова еще в продолжение первого действия, я поддерживал в течение всего спектакля.
Теперь, спустя много лет, когда я вспоминаю этот спектакль, состоявшийся 22 апреля 1929 года, а затем обращаюсь мыслью к другим спектаклям «Вишневого сада», в которых я видел тоже Тарханова, я прихожу к нескромному убеждению, что, пожалуй, доля правоты в моем неприятии тогдашнего тархановского Фирса все-таки была. От спектакля к спектаклю образ Фирса «оттаивал» у Тарханова. На том спектакле Фирс не вызывал к себе жалости. А потом уже невозможно было без волнения слушать его последний монолог, который Тарханов произносил без малейшей слезливости, просто, покорно, безропотно, как и должен был сносить все невзгоды бывший крепостной раб, воспринимавший «волю» как «несчастье», но это была простота трогательная и теплая: