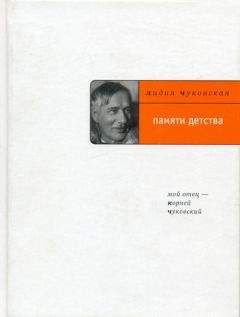Ознакомительная версия.
И еще была у него привычка: никогда не опаздывать. На всякие заседания, вернисажи, публичные лекции являлся даже чересчур аккуратно, секунда в секунду, и в безалаберном тогдашнем быту это нередко казалось чудачеством. Помню, через год после смерти Л. Н. Толстого, в ноябре 1911 года, в Петербургской консерватории был устроен торжественный вечер воспоминаний о великом писателе. В числе участников был указан на афише Репин. Судя по этой афише, вечер должен был начаться ровно в восемь, но все понимали, что начнется он не раньше половины десятого. Однако Репин был и здесь пунктуальнее всех. Мы выехали с ним из Куоккалы в шесть часов, даже несколько раньше. Ехали от Финляндского вокзала трамваем, который, согласно маршруту, кружил по всему городу и заезжал по дороге даже на Васильевский остров. Репин то и дело смотрел на часы и на каком-то мосту стал уговаривать вагоновожатого, не может ли он ехать скорее, «так как мы очень торопимся».
Приехали ровно к восьми.
В консерватории еще никого не было. Впереди сидел только какой-то поп или дьякон, да на хорах было несколько студентов. Репин посмотрел на часы и ринулся на кафедру — читать. Напрасно говорили ему, что зал еще пуст, что нужно же иметь сострадание к публике, которую издавна приучили запаздывать (причем многие придут главным образом, чтобы послушать его), он неумолимо показывал на часы, и нам стоило немалых усилий задержать его в артистической хоть на четверть часа.
Насколько я знаю, в литературе до сих пор не было сведений об одной из картин, которую издавна мечтал написать Илья Ефимович.
Картина эта — «Казнь Чернышевского». Как известно, в 1864 году царское правительство подвергло Н. Г. Чернышевского оскорбительному обряду «гражданской казни». На Мытнинской площади в Петербурге палачи возвели его на эшафот, привязали цепями к столбу и сломали у него над головой шпагу. Узнав об этой казни, Герцен тогда же с негодованием писал: «Неужели никто из русских художников не нарисует картины, представляющей Чернышевского у позорного столба? Этот обличительный холст будет образ для будущих поколений и закрепит шельмование тупых злодеев…»
Репин считал своим долгом выполнить этот завет Герцена. Нина Михайловна Чернышевская, внучка писателя — директор его музея в Саратове, вспомнила как-то в разговоре, что в 1905 или в 1906 году Репин посетил ее отца и расспрашивал о подробностях казни. Впоследствии он горько сожалел, что его замысел остался неосуществленным. Помню то волнение, с которым он читал письма Чернышевского из Сибири к родным, впервые изданные в 1913 году.
Думается, что любовь к великому революционеру осталась в Репине от юношеских лет, от шестидесятых годов, когда слагалась его духовная личность.
Особенно ценил он «Что делать?» и знал оттуда несколько страниц наизусть, главным образом «Третий сон Веры Павловны». И писал уже в преклонных годах: «Недавно в письмах Чернышевского мне представился весь действительный ужас заживо погребенного в нем русского гения».
Однажды он вошел ко мне в комнату, когда я кому-то читал знаменитый пасквиль Достоевского «Крокодил, или Пассаж в Пассаже», где, как полагали когда-то, высмеян сосланный в Сибирь Чернышевский. Вошел и тихо присел на диванчик. И вдруг через пять минут диванчик вместе с Репиным сделал широкий зигзаг и круто повернулся к стене. Очутившись ко мне спиной, Репин крепко зажал оба уха руками и забормотал что-то очень сердитое, покуда я не догадался перестать.
Вообще революционный демократизм шестидесятых годов, оставшийся в нем от студенческих дней и впоследствии отразившийся в его лучших картинах, давал себя знать и в позднейшее время.
Вот, например, как отзывается он в письме ко мне о русском павильоне на Всемирной выставке в Риме:
«Как не стыдно строить и тут — в изящной, живой Италии — острог… Самый рабовладельческий вкус времен Очакова и покоренья Крыма. Так и чувствуешь крепостных строителей, [работающих] из-под плетей помещиков — толстопузых, как эти безвкусные колонны!.. Все это — рабское каждение тьме»[21]
В 1925 году в печати появилось двухтомное издание переписки влиятельнейшего из царских министров — Победоносцева, который в одном из своих писем к царю отзывается с большой неприязнью о картине Репина «Иван Грозный, убивающий сына». Я переписал это письмо и послал его в Финляндию Репину.
Репин отозвался немедленно:
«Строки Победоносцева и выписывать не стоило; в первый раз я ясно вижу, какое это ничтожество — полицейский… А Александр III — осел во всю натуру! Все яснее и яснее становится подготовленная ими самими для себя русская катастрофа… Конечно, безграмотный мужлан Распутин был их гений, он и составил достойный финал им всем, — завершилось… — ведь сколько их предупреждали» [22].
И вот что он писал о черносотенцах:
«Эти отродья татарского холопства воображают, что они призваны хранить исконные русские идеи. Привитое России хамство они все еще мечтают удержать (для окончательной погибели русского народа) своей отсталой кучкой бездарностей, пережитком презренного рабства. Нет слов, чтобы достаточно заклеймить эту сволочь».
О Николае II тотчас же после Цусимы он писал:
«Теперь этот гнусный варвар… корчит из себя угнетенную невинность: его недостаточно дружно поддержали, поддержали одураченные им крепостные холопы. Если бы они, мерзавцы, с большей радостью рвались на смерть для славы его высокодержимордия, он не был бы теперь в дураках» [23].
И о нем же В. В. Стасову:
«Как хорошо, что при своей гнусной, жадной, грабительской, разбойничьей натуре он все-таки настолько глуп, что авось скоро попадется в капкан… Ах, как надоело!.. Скоро ли рухнет эта вопиющая мерзость власти невежества?» [24]
Что эта «мерзость» рухнет, у него никогда не было ни малейших сомнений. «Посмотрите, — писал он Стасову за десять лет до октябрьских дней… — какое молодое поколение выплывет на поверхность жизни!!! Какой свет разум[а] засияет над нашей освобожденной Россией!» [25]
Помню, как обрадовался он тому дерзкому памятнику, который поставил в столице Александру III скульптор Паоло Трубецкой. Убежденный демократ, враг царизма, Паоло Трубецкой изобразил охранителя монархических устоев — Александра III — в виде какого-то мрачного, оцепенелого пугала. Репин присутствовал на торжественном открытии этого памятника и в ту минуту, как увидел его, закричал:
— Верно! Верно! Толстозадый солдафон! Тут он весь, тут и все его царствование!
И, невзирая на травлю черносотенной прессы, бурнопламенно прославлял эту карикатуру на «царя-миротворца».
— Я поздравляю себя, всю Россию и все потомство наше с гениальнейшим произведением искусства, — сказал он в одной из приветственных речей Трубецкому, когда в печати раздались голоса, что надо бы взорвать этот памятник.
К нему приезжали от министерства двора уговаривать, чтобы он отказался от своих славословий, так как они оскорбительны для вдовы «солдафона» и для его сына Николая II, но Репин от этого только сильнее распалился и устроил скульптору такое демонстративное чествование, что многие побоялись принять в нем участие. Было приглашено около двухсот человек, а явилось всего только двадцать, и огромный стол в ресторане Контана, накрытый для этого празднества, показался еще более пустынным, когда к его углу прилепилась кучка людей, возглавляемых Репиным.
В 1913 году он вместе с моей женой и Натальей Борисовной Нордман помогал переправлять за белоостровский кордон одного поднадзорного, которому угрожала тюрьма: предоставил ему лошадь, деревенские сани и своими руками снарядил его в опасный путь.
Был у Репина приятель Жиркевич, провинциальный литератор и юрист. Репин двадцать лет состоял с ним в переписке, сочувственно следил за его творчеством, написал несколько его портретов. Приезжая в Петербург, Жиркевич по приглашению Репина почти всегда останавливался у него на квартире. Репин считал его своим человеком и охотно делился с ним мыслями о любимом искусстве, писал ему и о своих творческих замыслах, и о прочитанных книгах, и даже о семейных делах. Жиркевич вообще был очень неплохим человеком, искренним, не лишенным таланта. Но вот в 1906 году обнаружилось, что он по случайным причинам оказался сотрудником одного реакционного журнальчика. Узнав об этом, Репин написал ему такое письмо:
«Когда я увидел на присланной Вами книжке имя Крушевана, я сейчас же бросил эту книжку в огонь. Мне это имя омерзительно, и я не могу переносить ничего, исходящего от этого общения… Дай бог поскорей отделаться от всех мерзавцев Крушеванов, которые позорят и губят наше отечество…
Ознакомительная версия.


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)