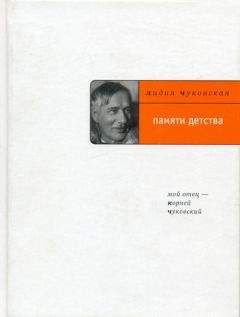Ознакомительная версия.
Ох, идет, идет грозная сила народа; фатально вызывают это страшилище невежды-правители, как вызывали японцев, и также будут свержены со всей их гнусной и глупой интригой. И самые даже благородные от природы, совращенные в лагерь Крушеванов людишки навеки будут заклеймены позором в глазах истинных сынов родины. И чем дальше в века, тем гнуснее будут воспоминания в освободившемся потомстве об этих пресмыкающихся гадах обскурантизма, прислужниках подлых давил. Сколько бы они ни прикрывались „чистым искусством“… видны ясно из-под этих драпировок их крысьи лапы и слышна вонь их присутствия».[26]
И он тотчас же порвал с человеком, с которым дружил двадцать лет.
Самая идея монархизма всегда была ненавистна Репину.
«…Что за нелепость самодержавие; какая это невежественная, опасная и отвратительная по своим последствиям выдумка дикого человека».
Когда реакционное духовенство отлучило Льва Толстого от церкви, Репин написал своей дочери Вере:
«По Руси отвратительным смрадом подымают свое вонючее курево русские попы… С забулдыгами „черной сотни“ они готовят погром русскому гению» [27].
Здесь отголоски идей, которыми в свое время питалось творчество Репина. Даже в восьмидесятых годах, в самый разгар реакции, когда казалось, что «шестидесятничество» погребено и забыто, Репин во всеуслышание объявил себя «человеком шестидесятых годов».
«…Я не могу, — писал он, — заниматься непосредственным творчеством (то есть „искусством для искусства“. — К. Ч.). Делать ковры, ласкающие глаз, плести кружева, заниматься модами — словом, всяким образом мешать божий дар с яичницей, приноравливаясь к новым веяниям времени… Нет, я человек 60-х годов, отсталый человек, для меня еще не умерли идеалы Гоголя, Белинского, Тургенева, Толстого и других идеалистов [28]. Всеми своими ничтожными силенками я стремлюсь олицетворить мои идеи в правде; окружающая жизнь меня слишком волнует, не дает покоя, сама просится на холст; действительность слишком возмутительна, чтобы со спокойной совестью вышивать узоры — предоставим это благовоспитанным барышням»[29].
Горячо возмущался он такими «безыдейными» художниками, как Семирадский и прочие.
Когда эти приверженцы «чистого искусства» пытались травить Верещагина, боровшегося в своем искусстве за социальную правду, Репин заявил себя страстным поборником верещагинской живописи:
«…Семирадский тоже не всех пленяет, много есть серьезных мнений, что Семирадский продал себя за деньги, как публичная женщина… И всем им с их живописью до верещагинской живописи так же далеко, как подносам до настоящих картин, я уже не беру нравственной стороны человека, которая дает Верещагину гениальность, а все они — куцые шавки» [30].
Это вовсе не значит, что в оценке картин он руководствовался лишь их содержанием. К красоте формы он был необыкновенно чувствителен. Но никакая самая прекрасная форма не могла заставить его примириться с безыдейным искусством.
«Будем судить за форму, за художественность, это понятно нам, жрецам, гастрономам всякого рода [охотникам] до соловьиных языков, голых задов и прочих даров неисчерпаемой богатством природы, но не будем же уже так нагло относиться к проявлениям разума в жизни, ведь это и есть тот святой дух, который нас ведет к чему-то высшему» [31].
Конечно, менее всего я хочу изображать его последовательным революционным бойцом. Он далеко не всегда с такой стойкостью выказывал себя «человеком шестидесятых годов». И все же Репин «Бурлаков», «Ареста пропагандиста», «Крестного хода», «Не ждали» сказывался в нем беспрестанно.
Сознание, что он своим творчеством послужил революции, никогда не покидало его. За несколько лет до смерти он написал мне об этом со своей обычной скромностью:
«От юности входя душою в героическую стезю бескорыстнейших мечтаний молодежи, и я полезен в сумме общего движения в пользу Революции» [32].
В 1914 году он затеял создать у себя на родине, в Чугуеве, трудовую рабочую академию художеств, основанную на демократических принципах.
— К черту эти подлые рисовальные школы, плодящие бездарных карьеристов! — гремел он у себя в мастерской, когда я позировал ему для его «Черноморской вольницы». — Нам нужны не чиновники живописи, бегущие в школу за казенным дипломом, а чернорабочие, мастера, подмастерья. Мы создадим Запорожье искусства. — приходи кто хочет и учись чему хочешь. Никаких рангов — ни высших, ни низших, ни этих проклятых дипломников! Принимаются люди обоего пола, всех возрастов, всех наций и званий!
К его семидесятилетию я написал в «Русском слове» об этом его проекте небольшую статью и предложил читателям прислать в редакцию газеты пожертвования на Народную академию имени Репина. Прочитав мое воззвание, Репин написал мне в тот же день: «Вашим лебединым криком на всю Россию в пользу моего Делового Двора даже я сам возбужден и подпрянул до потолка! Уже полез в карман доставать копейки».
Копеек в редакцию «Русского слова» посыпалось много, но царскому правительству эта рабочая академия художеств, естественно, пришлась не по вкусу, и были приняты очень тонкие меры, чтобы затея Репина превратилась в ничто. Местные чугуевские власти повели себя в этом деле дипломатично, политично, лукаво, уклончиво, все больше благодарили и кланялись, а потом пришла война, и все заглохло.
В сущности, это был новый бунт Ильи Репина против казенной Академии художеств — через сорок лет после первого[33]. Он так и написал в своем проекте Чугуевского «Делового двора»:
«Самая отвратительная отрава всех академий и школ есть царящая в них пошлость.
К чему стремится теперь молодежь, приходя в эти храмы искусства?
Первое: добиться права на чин и на мундир соответствующего шитья.
Второе: добиться избавления от воинской повинности.
Третье: выслужиться у своего ближайшего начальства для получения постоянной стипендии» [34].
Восставая против этих бюрократических мерзостей, Репин задумал создать нечто вроде фаланстера в духе романа «Что делать?». На старости лет он на минуту поверил, что в гнилостных недрах тогдашнего общества возможно взрастить такую немыслимую в то время коммуну производственно-учебного типа, участники которой делили бы между собой всю прибыль соответственно с количеством и качеством сделанной ими работы, причем эта коммуна должна была, по замыслу Репина, обеспечить им и пищу, и жилье, и одежду.
Этот запоздалый фурьеризм, неосуществимый в то время нигде на земле, чрезвычайно характерен для Репина, до старости сохранившего нежную память о знаменитой коммуне Крамского, из которой выросло потом передвижничество…
О том, что немцы напали на нас, Репин узнал в моей комнате. В тот день он был именинник, ему исполнилось семьдесят лет, и он пришел ко мне на дачу с полудня, чтобы спрятаться от тех делегаций, которые, как он знал из газет, должны были явиться к нему с поздравлениями.
Незадолго до этого, в том же году, умерла в Швейцарии Наталья Борисовна Нордман, и Репин остался в Пенатах один. Чтобы избежать юбилейных торжеств, он запер свою мастерскую на ключ и в праздничном светло-сером костюме, с розой в петлице, с траурной лентой на шляпе поднялся по лестнице ко мне в мою комнату и попросил «ради праздника» почитать ему Пушкина. У меня в это время сидели режиссер Н. Н. Евреинов и художник Ю. П. Анненков. К обоим Репин относился сочувственно. Мы горячо поздравили его, и, выполняя высказанное им пожелание, я взял Пушкина и начал читать. Репин присел к столу и тотчас же принялся за рисование. Анненков устроился сзади и стал зарисовывать Репина. Репину это понравилось: он всегда любил работать в компании с другими художниками (при мне он работал не раз то с Еленой Киселевой, то с Кустодиевым, то с Бродским, то с Паоло Трубецким).
Все время Илья Ефимович оставался спокоен, радостно тих и приветлив. Лишь одно обстоятельство смущало его: несколько раз мои дети бегали на разведку в Пенаты и всегда возвращались с известием, что никаких делегаций не прибыло. Это было странно, так как мы заранее знали, что и Академия художеств, и Академия наук, и множество других учреждений должны были прислать делегатов для чествования семидесятилетнего Репина.
Еще накануне в Пенаты стали с утра прибывать вороха телеграмм. А в самый день торжества — ни одной телеграммы, ни одного поздравления! Мы долго не знали, что думать.
Но вечером пришла, запыхавшись, соседка по даче и тихо сказала: «Война!»
Все вскочили с мест, взволновались и заговорили, перебивая друг друга, о кайзере, о немцах, о Сербии и о Франце Иосифе… Репинский праздник сразу оказался отодвинутым в прошлое. Репин нахмурился, вырвал из петлицы свою именинную розу и встал, чтобы сейчас же уйти.
Ознакомительная версия.


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)