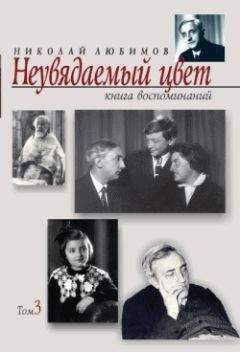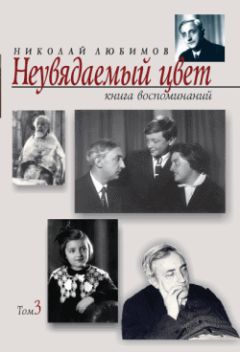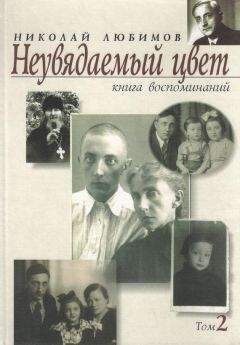Литературные концерты
В Москве 20-х годов я бывал наездами. Но я знал, что зала Политехнического музея завоевала себе популярность не меньшую, чем московские театры. Там проходили шумные диспуты на литературно-театральные темы, там читали стихи поэты, там выступали артисты, там, по словам Антокольского,
На собственный голос дивясь,
На эстраде кричал Маяковский.
(«Коммуна 71 года. Вступление»)
Я переехал в Москву в тот год, когда Маяковского не стало, но в конце 30-х годов я слышал в той же зале Асеева, читавшего первые главы своей поэмы «Маяковский начинается».
Я слышал, как Алексей Толстой читал в Политехническом музее только что напечатанные им главы второй книги «Петра». Толстой читал по-особенному – то почти на церковный распев: «Кричали петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон»; то аппетитно, вкусно, смакуя бытовые подробности, смакуя сдобный разговор. Когда читал смешные места, сам оставался серьезным, а публика покатывалась. У сидящего в президиуме Пильняка от смеха очки съезжали на кончик носа.
В 30-х годах Москва была по-прежнему облеплена афишами, извещавшими об именных литературных концертах артистов, о творческих вечерах современных поэтов, о литературных концертах, посвященных великим писателям прошлого (Шекспиру, Пушкину, Достоевскому), и как раз в эту пору завоевали любовь слушателей мастера художественного слова, выступавшие обыкновенно в Клубе МГУ, в Бетховенском зале Большого театра, в зале Политехнического музея.
Помню вечера Достоевского.
7 января 1931 года я был в Политехническом музее на одном из таких вечеров. Он начался с краткого вступительного слова, сказанного президентом Государственной Академии художественных наук Петром Семеновичем Коганом, а затем Лужский прочел монолог Федора Павловича – «За коньячком» (роль Федора Павловича считалась одной из лучших в обширном репертуаре Лужского), Степан Кузнецов – монолог Мармеладова, Москвин – Опискин и Лужский – Ростанев исполнили диалог из «Села Степанчикова», в заключение Качалов прочел «Кошмар» и о «клейких листочках».
Лужский тотчас после начальной фразы: «А убирайтесь вы, иезуиты, вон…» – подводил нас к самому краю головокружительной бездны самооплевывающего, в этом самооплевании находящего удовлетворение и в то же время трусливого цинизма. Предложения решительнейших мер борьбы с религией («А все-таки я бы с твоим монастырьком покончил. Взять бы всю эту мистику да разом по всей русской земле и упразднить…») перемежаются настойчивым: «Алешка, есть бог?» «Иван, а бессмертие есть, ну там какое-нибудь; ну хоть маленькое, малюсенькое?» Это – и со страхом, но и с надеждой. На протяжении небольшого монолога Лужский разверзал пучину душевной скверны, обнажал душевный тлен, душевный распад «сладострастника» Федора Павловича.
Много лет спустя в разговоре с Изралевским я, вспомнив этот вечер, допустил неосторожную обмолвку.
Лужский читал «За коньячком» как большой актер, – сказал я.
А почему вы говорите как большой актер? – ворчнул Борис Львович. – Лужский и был большим актером, – расстановисто добавил он.
Монолог Мармеладова в исполнении Степана Кузнецова – это была трагедия бедного человека, падшего, но и в падении своем не теряющего ни чувства собственного достоинства, ни сознания безмерной своей вины перед близкими, ни способности сострадать, ни способности любить, любить до боли нежно. С неисследимой глубиной отчаяния произносил эти слова Степан Кузнецов:
Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти.
– Милостивый государь, милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было бы такое место, где б и его пожалели!
А вот другой вечер Достоевского, состоявшийся тоже в Политехническом музее 11 декабря 1932 года. Как я уже говорил, попал я туда по приглашению одного из немногих профессоров, ради кого мне стоило проучиться несколько лет в институте. Когда я уже, «кончив курс своей науки», выпорхнул из института, о моем эстетическом воспитании продолжал заботиться большой ученый, пушкинист и достоевист Леонид Петрович Гроссман. На вечере он прочел два отрывка из своего романа о Достоевском «Рулетенбург», затем Леонидов прочел заключительную сцену из «Идиота» и последнее слово подсудимого из «Братьев Карамазовых», Берсенев – речь адвоката Фетюковича из того же романа, Журавлев – новеллу «Бобок», Гиацинтова – отрывок из «Белых ночей», Качалов – «Кошмар» и «Клейкие листочки».
Берсенев играл модного, самовлюбленного, привыкшего к успеху, самого себя заслушивающегося, как соловей, столичного адвоката, приехавшего в Скотопригоньевск, чтобы пустить пыль в глаза провинциа-лишкам, а главное, конечно, чтобы еще раз прогреметь на всю Россию, в глубине души совершенно равнодушного к судьбе своего подзащитного, в глубине души уверенного в его виновности и с огненным снаружи, но с холодным внутри пафосом доказывающего его невиновность. Словом, Берсенев с помощью едва уловимых интонационных оттенков играл «аблаката – нанятую совесть», как, пользуясь народным определением, обозвал «столичную штучку» Иван Карамазов («Бунт»).
Журавлев читал разговор мертвых «Бобок» – читал в стремительном темпе, в темпе presto. Сухой стук костей слышался в его четком стаккато: «Бобок! Бобок!» Вернее понять подтекст этой новеллы, вернее передать ее совершенно особенный стиль, по-моему, невозможно.
«Бобок» – это поздний Достоевский. «Белые ночи» – одно из лучших произведений раннего, «докаторжного» периода в творчестве Достоевского. Гиацинтова в полной мере давала зрителям ощутить щемящий лиризм этой повести, точнее – «истории Настеньки», трепетность ее первого, нерассуждающего чувства. Такая беспомощная обида, такая тоскующая, растерянная безнадежность звучала в ее голосе, когда она произносила эти слова:
– Теперь он приехал, я это знаю, и его нет, нет!..
Однажды некие староверы начали жаловаться Качалову на Яхонтова, на то, что он «фокусничает».
Быть может, они имели в виду его «чудесные сплавы» «Медного Всадника», «Шинели» и «Белых ночей» в одну композицию под названием «Петербург».
Быть может, они имели в виду немыслимых размеров ножницы, которыми кроил Петрович Акакию Акакиевичу шинель.
Или пение «Мне грустно потому, что я тебя люблю…» в начале лермонтовской «Казначейши».
Как бы то ни было, Качалов обратился к жалобщикам с отповедью:
– Яхонтов все может себе позволить, потому что читает он гениально.
Приведенный разговор происходил в присутствии Надежды Александровны Смирновой, мне его передавшей.
Слова о Яхонтове прекрасно характеризуют Качалова, читавшего, как и Яхонтов, Блока, Есенина, Маяковского и, однако, отдававшего ему восторженную дань, ибо Качалов не знал, что такое едкая, точно серная кислота, актерская зависть. И эти же слова математически точно, без малейшего преувеличения, определяют искусство Яхонтова.
Яхонтов одинаково мастерски читал и стихи и прозу. Стихи он читал выразительно, как актер, и мелодично, как поэт. Он воссоздавал биение ритмического пульса, его частоту и наполнение. Он настраивал свой голосовой инструмент на любой лад и без труда переходил от разговорного к размышляющему, от напевного к ораторскому. Он с ненавязчивой четкостью вырисовывал голосом рифмы, особенно тщательно, когда читал таких поэтов, как Владимир Маяковский, создававших рифмы изысканные, свежие, дерзкие.
Еще одно необычайное свойство Яхонтова: он читал «за женщин», пожалуй, еще лучше, чем за мужчин.
В композиции «Петербург» он читал историю Настеньки из «Белых ночей» так же чудесно, как читала ее Гиацинтова. В композиции «Настасья Филипповна» он был, во всяком случае, не менее убедителен, чем Борисова. В «Евгении Онегине» Владимир Николаевич Яхонтов особенно задушевно исполнял «партию» Татьяны.
Яхонтов мог бы сказать о себе словами пушкинского Скупого рыцаря: «Что неподвластно мне?» Он одинаково чутко улавливал подтекст и классических и современных писателей. Его сильной стороной был милый, лукавый юмор. Стоит только вспомнить, как он читал «Графа Нулина» или «Казначейшу». Стоит только вспомнить, с какой доброй улыбкой читал он стихотворение Маяковского «Краснодар»:
Вымыл все февраль
и вымел —
не февраль, а прачка,
и гуляет
мостовыми
разная собачка.
И дальше он изображал повадки собак разных пород.
У Яхонтова была сложная, с неисчислимыми ответвлениями композиция «Маяковский начинается», – в одноименную поэму Асеева Яхонтов вкрапливал стихи Хлебникова и главным образом самого Маяковского. «Юбилейное» влекло за собой некрасовского «Генерала Топтыгина». После строк Маяковского о Некрасове Яхонтов как доказательство того, что Некрасов действительно «мужик хороший», читал его «Генерала Топтыгина», и было видно, что ему самому доставляет наслаждение читать эту уморительную балладу. Начав читать ее в ритме не спеша катящихся саней, Яхонтов, лукаво улыбаясь одними глазами, от удовольствия помахивал в такт левой рукой.