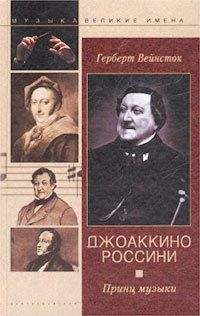Ознакомительная версия.
13 февраля 1855 года Россини рассказал Мордани, что в течение четырнадцати месяцев он спал только урывками, минут по пять, что он завидует тем существам, которые ничего не чувствуют, особенно животным. «Лучше умереть, чем так жить, – говорил он. – Все иллюзии по поводу жизни покинули меня. Я всегда мало думал о человеческой славе, зная, насколько легко бывает подняться на ее вершину и спуститься с нее». Когда Мордани встретил Россини вновь, через два месяца спустя, как раз перед отъездом Россини в Париж, композитор сказал: «Никто не знает, какую боль причиняют нервные заболевания. Посмотрите, я не могу поднять руки выше этого уровня». Мордани пояснил, что он мог поднять их только до головы. «Но не думайте, что, когда меня охватывает нервное заболевание, мой ум затуманивается или теряет свою ясность. О нет, этого никогда не происходит...»
Ни спокойная летняя жизнь в Тоскане рядом с Флоренцией, ни ванны Монтекатини и Баньи-ди-Лукка (где Россини провел лето 1854 года с 28 июня) – ничто не помогло ему. Мордани рассказывает об одном «магнитном» сеансе, предпринятом для лечения Россини в начале октября 1854 года «графом Джиннази», который «намагничивал ночной колпак, дуя в него и поглаживая с наружной стороны. Бедный Россини!». Нервы его были постоянно расстроены, часто он проклинал себя, однажды он поднес нож к горлу и умолял друзей прекратить его страдания. «Воистину несчастная жизнь!» – восклицает Мордани, глядя на «мертвенно-бледное лицо, апатичные, глубоко ввалившиеся глаза, впалые щеки и поникшую голову» Россини.
Описание Эмилии Бранка Романи своей поездки во Флоренцию, которую она совершила в 1854 году вместе с мужем, сестрой Матильдой и мужем Матильды Джува, подтверждает сообщение Мордани. Россини, по ее словам, страдал от «невроза, который полностью изменил его характер и превратил почти в маньяка... Россини по-настоящему был болен, расстроен, нервозен, он ослабел и упал духом. Композитор считал, что мир забыл его, и он сам тоже хотел бы забыть мир, полностью отдалившись от него... Разговор касался только неудобств, от которых он страдал, и подробностей курса лечения, который его врач профессор [Маурицио] Буффалини предписал ему пройти, но он не имел желания подчиняться. Иногда маэстро принимался взволнованно ходить по комнате и, ударяя себя по голове, проклинал свою судьбу, восклицая: «Кто-нибудь другой в подобном состоянии убил бы себя, но я... я трус, и у меня нет мужества совершить это!» Ничто не могло успокоить этот изменившийся ум. Определенно, его пылкое воображение, его мощная фантазия приносили ему вред, перерождаясь в манию».
После того как Романи и семья Джува пообедали с супругами Россини, Олимпия, почувствовав, что наступил подходящий момент, открыла дверь, ведущую в салон, где стояло фортепьяно, и подготовила его к игре.
Наступила ночь.
Синьора Матильда Джува, очень умная и красивая женщина, обладавшая изысканно вкрадчивыми манерами, прекрасно знала, что делать: мало-помалу с помощью Романи она заставила папу-маэстро, как она его называла, войти в салон, сесть за фортепьяно и аккомпанировать ей, когда она исполняла романс из «Отелло», которому он когда-то научил ее с такой любовью.
Маэстро позволил вывести себя в салон, но при условии, что будет сохраняться полутьма. К маленькому обществу присоединились постоянные друзья: князь Понятовский, графы Дзаппа (Дзаппи) и Риччи, художник Винченцо Разори, знаменитый латинист Ферруччи, молодой иностранный джентльмен, пианист, оставшийся во Флоренции изучать контрапункт, и еще несколько близких друзей. Все перешли в салон, освещенный всего лишь лампой, стоящей на столе в столовой.
Россини сидел за фортепьяно, Матильда, готовая петь, стояла рядом с ним, а слева от него находился Романи. Проворные пальцы великого маэстро бежали по клавиатуре, исполняя арпеджио, выводя трели, причудливо вплетая свою фантазию в прелюдию знаменитого романса из «Отелло», увеличивая ее в четыре, в сто раз, играя фантазию в стиле Тальберга, великолепно, изумительно, ошеломляюще. Можно было подумать, будто он только и делал, что практиковался в игре на фортепьяно.
Восхищение слушателей, которым посчастливилось присутствовать на этом импровизированном концерте, не знало границ, но никто не осмелился проявить его, так как синьора Пелиссье, прижав палец к губам в знак молчания, прошла мимо них, она боялась побеспокоить маэстро. Когда прелюдия закончилась, она сказала синьоре Джува: «Теперь ваша очередь, дорогая Дездемона». Та, растроганная почти до слез, спела настолько выразительно, настолько страстно и точно, что едва она закончила, как Россини, чрезвычайно расчувствовавшийся, принялся неистово плакать и рыдать, как ребенок. Он был потрясен... Это смутило всех присутствующих... но затем Романи присоединился к своей жене, они стали говорить ободряющие слова маэстро, который продолжал сидеть за фортепьяно, снова и снова целуя руки талантливой певицы.
Спокойствие было вновь восстановлено, и Россини, снова пробежав пальцами по клавиатуре, извлекая из нее волшебные звуки, предложил продолжавшей неподвижно стоять рядом с ним женщине исполнить каватину из «Семирамиды». Синьора Джува с радостью согласилась, но опасалась, что не слишком хорошо ее помнит. «Но все же, дорогая Матильда, вы должны петь без нот, я не хочу, чтобы зажигали свет... Я сыграю роль суфлера», – добавил композитор. И он с блеском великого пианиста сыграл прелюдию и мелодию предшествующего хора с новыми пассажами. Так же, как и романс из «Отелло», каватина была исполнена с начала до конца без единой помарки, с хорошим вкусом, вызвав огромное восхищение у всех, особенно у маэстро, который на этот раз, испытывая огромное удовлетворение, хотел обнять и поцеловать свою Семирамиду, как он выразился, и наговорил ей множество комплиментов. «Смотрите, Россини снова вернулся к музыке!» – хором воскликнули друзья и стали поздравлять друг друга. Мадам Пелиссье с экспансивной благодарностью пожала руки Романи и Джува и обняла сестер Бранка, своих друзей, выражая благодарность за все добро, которое они сделали для нее.
Начиная с этого вечера, музыка стала понемногу исполняться в доме Россини – музыка самого Россини, как можно догадаться, или старых мастеров, и это продолжалось до тех пор, пока две семьи Романи и Джува около месяца оставались во Флоренции. Светлый промежуток в состоянии души Россини длился недолго, приступы ипохондрии снова и снова охватывали его с большей или меньшей силой, но постоянно».
Стали распространяться слухи, будто Россини сошел с ума. Тогда Олимпия почувствовала необходимость публично опровергнуть эти сплетни. 22 октября 1854 года парижская «Ревю э газетт мюзикаль» сообщала: «Мы счастливы, что имеем возможность сообщить нашим читателям новости, которые опровергают сообщения о состоянии здоровья Россини, недавно опубликованные в газетах. В присланном нам письме, написанном под его диктовку женой и подписанном им самим, прославленный композитор поздравляет себя с тем, что, несмотря на все страдания, через которые ему пришлось пройти, он сохранил в целости свои способности» .
Поскольку все остальное не привело ни к какому результату, Олимпия решила снова отвезти Россини в Париж, полагая, что французская медицина сможет сделать то, на что оказалась неспособной итальянская, к тому же она надеялась, что полная перемена обстановки сама по себе принесет ему пользу. После самого тщательного обдумывания и долгих отсрочек решение было приведено в жизнь. 26 апреля 1855 года Россини и Олимпия в сопровождении двух слуг, Тонино и Нинетты, выехали из Флоренции в Париж. Их друг Мазетти сопровождал их до Лукки. Они провели несколько дней в Ницце, где местные музыканты устроили в честь них серенаду в саду отеля «Дез Этранже». В Париж они прибыли примерно 15 мая. Россини не суждено было увидеть Италию вновь. Но после некоторой отсрочки, вызванной плохим состоянием здоровья на протяжении почти четырнадцати лет, начался его финальный апофеоз.
Путешествие из Флоренции в Париж, сопровождаемое остановками и длившееся почти месяц, не улучшило состояние здоровья Россини. Первым домом, в котором они с Олимпией поселились по приезде в Париж периода Второй империи, стал дом номер 32 на рю Бас-дю-Рампар 1 . Композитор не мог принять всех желающих его посетить. Когда некоторых из них– Обера, Карафу, Жозефа Мери, Пансерона, графа Фредерика Пилле-Вилля, барона Лионеля де Ротшильда, Сампьери – приняли, те из них, кто не видел Россини несколько лет, сочли шестидесятитрехлетнего композитора пугающе истощенным, бледным и ослабевшим, его ум, казалось, утратил свою былую живость. Ел он без удовольствия, с трудом переваривал пищу, быстро уставал. Говорят, что игра шарманщиков неподалеку от его дома доставляла ему непереносимую боль (особенно когда в состоянии нарушенного душевного равновесия к каждому звуку в его измученном мозгу присоединялась терция). Так что Олимпии пришлось дать консьержу небольшую сумму, чтобы платить им и поскорее выпроваживать.
Ознакомительная версия.