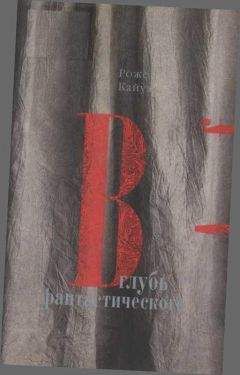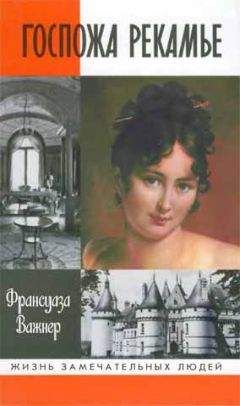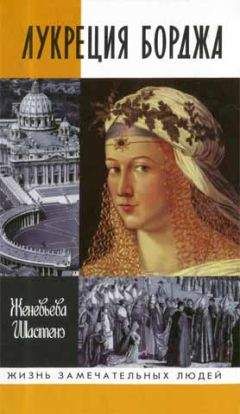Конечно, уже в искусстве греков можно заметить множество признаков, показывающих, что его образы были только мечтанием, за которым не чувствуется твердой убежденности. Напомню хотя бы о все более ощутимом меланхолизме этого искусства, столь родственном унылости надгробных надписей. «Харидант, что там, скажи, под землей?{26} — Очень темно тут. — А есть ли пути, выводящие к небу? — Нет, это ложь. — А Плутон? — Сказка. — О горе же нам…» Так настроен Каллимах. Повсюду, во всех мистернальных культах, и в еврейской традиции тоже, обостряются противоречия, порожденные этим новым настроением. Именно его выражает Плотин, когда настойчиво осуждает укоренившееся в античном мире представление, согласно которому красота есть «симметрия», гармония, взаимная согласованность частей и целого. Гармония, говорит Плотин, предполагает существование частей, то есть дробление. А прекрасное — это Единое, это причастность Единому, и притом неопосредованная, прямая причастность. Поэтому искусство должно избирать своим предметом — предметом недостижимым — трансцендентную реальность. Когда искусство посвящает себя воспроизведению вещей, например в портрете, оно себя губит. Следовательно, художник должен отстраняться от всякой материальности, точнее (ибо неверно, что искусство «плотиновского» направления тяготеет к бестелесности; напротив, оно лучше любого иного умеет помещать абсолют в простые формы и заключать сияние в камень), от всякого гнета фигуративности, — чтобы обрести в симпатической связи, соединяющей образ с его моделью, отражение Ума. Nous'a, которое и есть подлинная реальность. Андре Грабарь{27} показал, как тесно связана плотиновская философия и раннее христианское искусство. И как известные приемы позднеантичного искусства, втягивающие абсолют в произведение художника, — отрицание пространственности, обратная и лучевая перспектива, «отсталые» способы моделирования объемов, подчинение естественных форм регулярным геометрическим схемам — вырастают из самого строя мысли Плотина. Но и все средневековье, вся итальянская живопись вплоть до Чимабуэ были наследниками этого искусства и присущего ему ощущения вневременности. Ведь оно — и это всего важнее — развернуло вечность и время лицом к лицу. Некогда продолжавшие друг друга в качестве мира Идей и природы, теперь они, в качестве Бога и участника таинства, друг другу противостоят, пусть и встречаясь в те редкие мгновения, когда последний достигает экстаза. И время мистического опыта — это время блужданий, время надежды и уныния, это экзистенциальное время, чье глубокое отличие наконец признано художниками, — впрочем, с той оговоркой, что это время так и не могут оценить по достоинству. Кажется, оно не знает куда деться перед величественными образами, украшающими церковные абсиды, и хочет только одного — исчезнуть без следа. Созерцание избавляет от земного времени.
Совершенно ясно, что это время было рождено размышлением о смерти. Они все похожи на какое-то единое «vanité»{28}, на «mémento mori», эти средневековые образы, по которым можно проследить, как устремленность к трансцендентному и к спасению искажает приемы, созданные в Греции, как, подверстывая канон Поликлета под мистический смысл, число превращают в символ, как геометрию мысли делают гипнозом, сводя принцип симметрии к его наиболее грубым формам, — когда, скажем, в Равенне ставят друг против друга, слева и справа от хрисмы{29}, двух павлинов, и это символизирует бессмертие в смерти.
Они похожи — об этом нельзя не сказать — на рождающееся чувство радости.
IV
Итак, у начала Кватроченто мы находим два противостоящих друг другу понимания времени, две разные исходные концепции художественного творчества. Но этот момент не стал бы поворотным в истории искусства, если бы не еще один, третий фактор, резко углубляющий кризис. Я имею в виду небывалое значение, которое в ту пору получило некогда презираемое земное время, решительную переоценку конечности человеческого существования.
Надо было бы проследить историю этой переоценки в XIII и XIV веках, когда постепенно возраставший интерес к содержанию профанного времени все же никак не изменял его положение и на него по-прежнему смотрели свысока. Искусство вновь училось изображать превратности человеческой жизни, но этот процесс оставался маргинальным и еще долго замыкался в рамках «красочности», простонародности, шутливости. Вневременное могло выражать себя в архитектуре, в высокой серьезности других основных искусств, а повседневному времени дозволялось украшать собою лишь какую-нибудь церковную скамью. Когда же фрагмент земного времени находил место на картине, он попросту размещался рядом с вневременным и вечным, так что никаким мысленным усилием их нельзя было свести в единую, целостную правду. Уже говорилось о «недостижимом синтезе» схоластики, безуспешно пытавшейся видеть в человеке одновременно общее и единичное. Это точное выражение применимо и к готическому искусству: в нем человеческий жест всегда выглядит ирреальным, всегда уличается во лжи тем неприступным сакральным пространством, которое его окружает. Подлинному синтезу, который даруется земным мгновением, клир противопоставляет иерархию. Чего стоят хотя бы фрески в Испанской капелле!{30} И тем не менее Италия уже начинает очеловечивать этот готический мир, такой новый и, несмотря на это, такой устарелый. В кругах дантова Ада земное время тоже остается пленным и немощным, оно, подобно Танталу, обречено лишь непрестанно тянуться вверх в бессильных попытках стяжать права, которые ему навеки заказаны, — но как неожиданно торжественны, как серьезны размышления Данте над природой этого времени! Вспомним рассказ Франчески: одного места в книге, говорит она, оказалось достаточно, чтобы решить нашу судьбу. «И в этот день мы больше не читали». Любовь, погубившая героев, проснулась в единый миг. Если бы у Паоло и Франчески было в распоряжении сколь-либо длительное время, они бы опомнились, соотнесли свое поведение с законом, этим образом вечности, подумали о своей ответственности перед ним, о действительности, возможно, о том, что они лгут и, во всяком случае, поступают безнравственно, — но над ними полностью и безраздельно возобладало мгновение. Понятно, это совсем не то мгновение, которое переживают в мистическом опыте. Оно не воссоединяет человека с абсолютом, оно затеряно в самой темной глубине его удела, в дебрях случайного решения, где, конечно же, прячется дьявол, — во владениях смерти. И тем не менее, пишет Данте, «ветер смолк», давая Франческе говорить. Гнев Божий на мгновение улегся. Восхитительная метафора, позволяющая услышать, как божественное начинает резонировать в лад профанной жизни, которая все еще считается падшей. Сам Данте не может не испытать волнения, не откликнуться душой (он даже лишается чувств и рушится наземь «как мертвец») этому горькому времени, похожему на смерть.
То же можно сказать и о Джотто. Не думаю, что этот художник был в той степени, какую ему приписывают, первооткрывателем чувственного мира. В его живописи еще нет горизонта, она ограничивается декором. Но что Джотто действительно сумел открыть заново, так это человеческий жест и человеческое время. В его «Noli me tangere» мы чувствуем патетику внезапности, в «Оплакивании Христа» — сомнения любви, которая ощупью убеждается в непоправимости случившегося. Все вещи Джотто существуют только во времени и только благодаря времени, и другого горизонта, чем время, здесь нет, — потому что именно оно, как в падуанском «Рождестве», где над рождением склоняются тревога и надежда — а что это, как не проявления падшего времени, которое обрекает все рождающееся на смерть? — позволяет художнику изобразить божественное. Конечно, Джотто не наделяет профанное время высшим значением. Он лишь с замечательной последовательностью продумывает мысль о воплощении Иисуса во времени, — ведь эта мысль подразумевает, что Бог принял наш облик и вошел во время, то есть в бренность и смерть (которая, в свою очередь, есть заблуждение и грех), только для того, чтобы победить смерть, а тем самым победить и время. Но уже простое напоминание о том, что может быть упразднено только божеством, есть хвала и славословие. Джотто придал побежденному времени решающую силу. Отныне время становится зримым, и художники оказываются перед проблемой: соглашаться с этим или нет?
Составятся две партии. В одну войдут художники, которые попытаются — и успешно — спасти прежнее, неопосредованное изображение в невременности. Можно ли сказать, что эти художники были лучшими христианами? Как я покажу, не всегда, — если признать, что сохраняющиеся в живописи формы вневременности постепенно будут менять свой смысл, вновь становиться миром Идей, умозрительным царством духовных сущностей. У христианства есть греческий, пеласгинский полюс. И он не столько исцеляет, сколько позволяет забыть то, что считалось раной. Но другие художники — и на радость себе, и на горе — предпочтут любовь к времени. Они будут взывать к субъективности человека, к его страстям, будут обращаться к античности за «языческими» мифами и художественными приемами. И опять-таки: можно ли назвать этих художников чисто мирскими умами? Пожалуй, однако не в начале их пути, а по прошествии долгих и тревожных лет. когда они окончательно утвердятся в своем выборе, основанном уже не столько на природной склонности, сколько на сознательном убеждении. Но они не пришли бы к этому убеждению, если бы прежде не попытались — более взыскательно, более честно, чем это делала схоластика, — озарить земное время молнией божественной свободы.