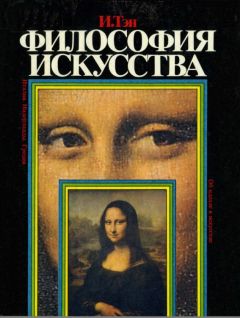Ознакомительная версия.
Нам остается построить подобную же шкалу, или лестницу, для физического человека и для изображающих его искусств, т. е. для скульптуры и особенно для живописи; согласно прежнему способу, мы, во-первых, поищем, какие характеры в физическом человеке всех устойчивее, так как они-то важнейшие и есть.
Прежде всего, очевидно, что модная одежда — характер весьма второстепенный: она меняется каждые два года или по крайней мере каждые десять лет. То же можно сказать и об одежде вообще: это ведь только внешность, убранство — можно снять ее в один поворот руки; существенно в живом теле только самое живое тело, все прочее — искусственный придаток, не более. Другие характеры, на этот раз принадлежащие самому уже телу, также опять не слишком важны — это частности, происходящие от рода занятий и ремесла. У кузнеца не такие руки, как у адвоката; у офицера не та поступь, что у священника; у поселянина, работающего целый день на солнце, другие мышцы, другой цвет кожи, другой изгиб спины, иные складки на лбу, иная походка, чем у горожанина, замкнутого в своих гостиных или конторах. Конечно, характеры эти обладают некоторой прочностью; человек сохраняет их во всю свою жизнь; раз сложившись, известная складка остается надолго; но довольно было незначительного случая, чтобы произвести их, и довольно будет столь же незначительного другого, чтобы их изгладить. Единственной их причиной была случайность рождения и воспитания: поставьте человека в другие условия, в иную среду — и вы найдете в нем противоположные особенности; горожанин, воспитанный по-мужицки, мужиком будет и смотреть, а мужик, воспитанный на городской лад, приобретает наружность горожанина. Печать происхождения, если сколько-нибудь и удержится после тридцатилетнего воспитания, будет заметна разве только психологу да моралисту; в теле сохранятся от нее лишь неуловимые черты, а заветные, устойчивые признаки, составляющие самую его сущность, лежат гораздо более глубоким слоем, до которого этим мимолетным причинам не дойти.
Есть другого рода влияния, которые, преобладая над душой, оставляют весьма слабые следы на теле; я говорю об исторических эпохах. Система идей и чувств, занимавших человеческую голову при Людовике XIV, была не такова, как теперь, но склад тела почти не изменился с того времени, разве что, вглядевшись в портреты, статуи и эстампы, вы откроете большую тогда привычку к размеренным и благородным позам. Всего сильней меняется лицо; фигура времен Возрождения, насколько она нам известна по портретам Бронзино или Ван Дейка, выражает более энергии и простоты, чем в наше время; за три последние столетия бездна наполняющих нас туманных и меняющихся идей, крайняя многосложность наших вкусов, лихорадочная тревога мысли, непомерная мозговая деятельность, тирания беспрерывного труда утончили, растревожили, измучили выражение нашего лица и взгляда. Наконец, если взять долгие периоды, можно открыть некоторое изменение в самой голове; физиологи, измерявшие черепы XII столетия, нашли их не столь емкими, как наши. Но история, так верно учитывающая все нравственные перемены, отмечает только огулом и слишком недостаточно перемены физические. Это потому, что одно и то же изменение человеческого существа, громадное в нравственном отношении, весьма ничтожно в физическом; какая-нибудь незаметная для нас разность в головном мозгу делает человека безумным, идиотом или гением; социальный переворот, в два или три столетия обновляющий все пружины ума и воли человека, едва касается его органов, и история, дающая нам средства соподчинять между собой душевные характеры, не дает средств подчинять один другому характеры или признаки телесные.
Стало быть, нам надо выбрать иной путь, но и здесь ведущим будет опять-таки принцип соподчинения характеров. Вы видели, что если какой-нибудь характер устойчивее других, то это потому, что он более других первичен, элементарен; причина его долговечности заключается в его глубине. Поищем же в живых телах признаков, свойственных первичным началам; а для этого припомните себе какую-нибудь модель, одну из тех, что постоянно у вас перед глазами, в учебных залах. Вот голый человек; что общего между всеми частями этой одушевленной поверхности? Какой элемент, повторяясь и разнообразясь беспрестанно, встречается, однако ж, в каждом клочке целого? С точки зрения формы это — кость, снабженная сухожилиями и одетая бездной мышц; здесь вот лопатка и ключица, там бедро и бедренная кость; выше — позвоночный столб и череп, каждый со своими сочленениями, впадинами, выпуклостями, своим приспособлением служить точкой опоры или рычагом и с этими жгутами тягучего, подвижного мяса, которые, то сокращаясь, то растягиваясь, сообщают человеку различные положения и движения. Скрепленный суставами скелет, покров мышц, все в логической связи между собой, дивная, мудрая машина действий и усилий — вот основа видимого человека. Если теперь, рассматривая его, вы примете еще в расчет те изменения, какие производят в нем порода, климат и темперамент, мягкость или крепость мышц, различные пропорции частей, разгон в длину или, напротив, подбор стана и членов — у вас в руках будет весь существенный, заветный строй тела, насколько он доступен скульптуре и живописи. Поверх мышечной ткани простирается другая оболочка, также общая всем сплошь частям, — кожа с ее животрепещущими сосочками, то синеватая от сети мелких вен, то желтоватая от соседства сухожильных сплетений, то красноватая от напора крови, перламутровая от соприкосновения с мышечными оболочками, то гладкая до лоска, то шероховатая, с чрезвычайным богатством и разнообразием тонов, светящаяся в тени и животрепещущая при свете, выдающая своей нервной чувствительностью всю нежность пухлой мякоти и постоянное обновление быстро сменяющейся плоти, для которых она не более как прозрачный покров. Если сверх того вы обратите внимание на различия, производимые в коже породой, климатом, темпераментом, если заметите, как у флегматика, холерика или сангвиника она бывает то нежная, вялая, розоватая, белая, бледная, то твердая, плотная, янтарного цвета или железистая — вы получите другой элемент видимой жизни, составляющий область живописца, который выразить может только один колорит. Вот основные глубокие характеры физического человека, и я не считаю нужным объяснять вам, что они устойчивы именно по нераздельности своей с живой особью.
V
Шкала пластических ценностей соответствует этой шкале ценностей физических. — Произведения, представляющие одежду текущего дня или вообще одежду. — Произведения, обнаруживающие особенности профессии, общественного положения, характера и исторической поры. — Хогарт и английские живописцы. — Эпохи итальянской живописи. — Пора детства. — Пора процветания. — Пора упадка. — Произведения итальянцев более или менее совершенны, смотря по тому, насколько преобладает в них чувство физической жизни. — Тот же самый закон в других школах. — Различие пород и темпераментов, выражающееся в различных школах. — Тип флорентийский, венецианский, фламандский, испанский.
Этой шкале, или лестнице, физических ценностей отвечает ступенью в ступень шкала ценностей пластических. При одинаковых во всем прочем условиях картина или статуя выходят более или менее изящны, смотря по тому, в какой степени важен выражаемый ими характер. Вот отчего всего ниже стоят те рисунки, акварели, пастели, статуэтки, которые изображают в человеке не человека, а одежду, и в особенности одежду текущего дня. Иллюстрированные журналы наполнены такими же произведениями; это почти картинки мод; костюм выставляется здесь во всех его крайностях: стан, перетянутый, как у осы, чудовищные юбки, копнообразные, фантастические прически; художнику и дела нет до того, как искажено тут человеческое тело, ему нравится только наличное в ту минуту щегольство, лоск тканей, безукоризненность перчаток, совершенство шиньона. Наряду с журналистом пера, он журналист карандаша; он может обладать большим умом и талантом, но старается угодить только мимолетному вкусу; через двадцать лет костюмы его будут старомодны. Много такого рода очерков, которые были животрепещущими в 1830 году, теперь могут слыть историческими или казаться уже просто смешными. Бездна портретов на наших ежегодных выставках не более как портреты платья, и наряду с живописцами людей есть живописцы муар-антика и атласа.
Другие живописцы, хотя и повыше этих, все-таки остаются еще на нижних ступенях искусства или, скорее, талант идет у них с искусством врозь, это сбившиеся с пути наблюдатели: рожденные писать романы и очерки нравов, они вместо пера взялись ошибочно за кисть. Их поражают особенности ремесла, профессии, воспитания, отпечаток порока или добродетели, какой-нибудь страсти или привычки; Хогарт, Уилки, Мюльреди и множество английских живописцев отличаются этим столь неживописным, но зато совершенно литературным дарованием. В физическом человеке они видят лишь человека нравственного; краски, рисунок, правда и изящество живого тела — все это у них дело второстепенное, зависящее от другого. Главное для них — передать в формах, в красках, в положениях то легкомыслие модной барыни, то честную скорбь какого-нибудь старика-управителя, то уничижение игрока — бездну мелких драм и комедий из действительной жизни, поучительных или забавных, почти всегда имеющих целью внушить добродетель или исправить порок. Собственно говоря, кисть их пишет только души, умы и чувства; они так сильно напирают на эту сторону, что преувеличивают или совсем одеревеняют форму; картины их сплошь выходят карикатурами, но всегда это иллюстрации, и иллюстрации какой-нибудь сельской идиллии или какого-нибудь домашнего романа, который следовало написать Бернсу, Филдингу или Диккенсу. Те же стремления не покидают их и тогда, когда они берутся за исторические сюжеты; они берутся за них не как живописцы, но как историки и изображают нравственные чувства известного лица известной эпохи, взгляд леди Рессель при виде ее осужденного на смерть мужа, благочестиво принимающего причастие, отчаяние красавицы с лебединой шеей Эдифи, когда она нашла своего Гарольда между трупами убитых под Гастингсом. Произведение их, состоя из археологических и психологических данных, обращается за сочувствием разве только к археологам и психологам или уж не иначе как к записным любителям и философам. Далее сатиры или драмы оно не идет, и зрителю просто хочется смеяться или плакать, как при каком-нибудь пятом действии театральной пьесы. Но, очевидно, это какой-то эксцентрический род искусства, это захват живописью того, что принадлежит литературе, или, скорее, это — вторжение литературы в живопись. Наши художники 1830 годов, и Деларош впереди всех, впали в ту же ошибку, хотя и не в такой степени. Красота пластического произведения должна быть прежде всего пластична: искусство всегда роняет само себя, когда, позабыв свойственные ему средства интересовать нас, оно занимает их у других искусств.
Ознакомительная версия.