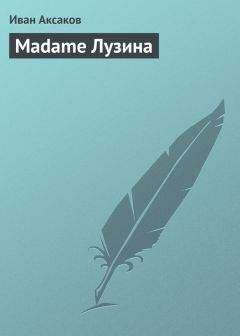Иван Сергеевич Аксаков
Madame Лузина
На нынешней неделе праздновалась столетняя годовщина первого представления первой русской комедии, положившей такое достославное основание драматической сатире в России. Можно даже сказать, не отрицая заслуг «Ябеды», что от «Недоросля» до «Горя от ума» («Ревизор» явился позднее) не было сатирического произведения, которое бы по таланту, по критической меткости, а главное – по своему воздействию на общество равнялось с знаменитым произведением Фонвизина. Но автор «Недоросля» был вместе и автором «Бригадира», комедии также очень замечательной, хотя и стяжавшей несравненно меньший успех. Эта неравномерность в успехе происходила, кажется нам, не только от художественного превосходства «Недоросля», но еще более от различия содержания: сатира «Бригадира» язвила лишь столичное общество, лишь верхний общественный класс с его неуклюжим, аляповатым усвоением внешних форм европейской цивилизации, с его рабскою, косолапою подражательностью иностранцам, так напоминавшею кривлянье обезьян корчащих человека, – с его увесисто-легкомысленным презрением к родному языку и своей родной народности (торчавшей однако же, притом самыми своими непривлекательными сторонами, из-под французских кафтанов и французского ломанного жаргона), – с его поверхностным образованием и преждевременно старческим растлением. Но этим недугом еще далеко не была заражена вся масса русского общества; обличение этой лжи, – ясной, в то время, сознанию еще немногих, избранных умов, – не стояло на очереди, не было злобою тогдашнего исторического дня. Злобою дня, на покаянной исторической очереди обреталась тогда патриархальная заскорузлость помещичьего быта – ленивое, обеспеченное крепостным рабством, само себе довлеющее невежество многочисленного класса деревенских бар, косневших в грубости, уклонявшихся и от просвещения и от службы.
Но в сознании автора «Недоросля» и «Бригадира» обе комедии, очевидно, не разделялись, а восполняли одна другую: мерзость самодовольного невежества противопоставлялась мерзости самодовольной лжеобразованности; здесь – грубый разврат помещичьего, барского, нетронутого цивилизациею быта, сидевшего, так сказать, на родном корню, – там: едва ли еще не более безобразный разврат, да и не одних нравов, но самой мысли; там, то есть в верхнем, более или менее правящем слое общества, все сильней и сильней отрывавшемся, не только по внешнему строю жизни, но даже в сознании и в чувстве, от родной почвы, от своей духовной национальной основы, от самой сущности народной. Нужды нет, что «Бригадир» был написан ранее «Недоросля»; обе комедии представляют в целом общую картину того исторического образовательного у нас процесса, в силу которого Простакова перерождалась в Советницу, Скотинин и сам Митрофанушка в бригадирского сынка, – одного из тех, которыми кишели вельможеские гостиные того времени.
Типы «Недоросля» могут считаться теперь устаревшими. Скотининское невежество не представляется уже общественной язвой нашего времени: русское общество стараниями правительства, – целым рядом прельстительных и принудительных мер, – прогнано было, можно сказать, сквозь «просвещение» как сквозь строй, и такой характер сохраняет еще доднесь система нашего общественного образования. Но типы «Бригадира» живы еще и до сих пор. Они не устарели в своей существенной основе; они или видоизменились, приняли более утонченную, даже духовную форму, или же просто перестали колоть нам глаза вследствие приобретенного ими права гражданства: мы так привыкли к ним, что они нас уже и не оскорбляют. Нет, они не устарели! В двадцатых годах текущего столетия, то есть через полвека после появления в свет комедий Фонвизина, Грибоедов хлестнул бичом своей гениальной сатиры опять то же самое, только несколько облагообразившееся направление, которое в такой грубо комической форме изображено в «Бригадире». Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев!
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя б по языку нас не считал за немцев?.. —
воскликнул Чацкий к великому огорчению г. профессора Веселовского, который всеми силами старается очистить Грибоедова от подозрения в славянофильской ереси и сопричислить его к «западникам», a la Чаадаев! Но Бог с ним, г. Веселовским: он, как известно, понимает историю русской литературы только как историю подражания иностранным литературам и приходит в восторг от каждого опознанного им заимствования, – тогда как главный интерес истории нашей словесности именно в усилиях русского духа (в лице его гениальнейших представителей) выбиться из пут ложного, обезнародившего нас просвещения и проявить свою народную самостоятельность, вне которой немыслимо для нас ничто общечеловеческое.
В тридцатых годах Пушкин пытался и отказался от мысли написать роман из русского великосветского быта, так как для точного его воспроизведения пришлось бы чуть не весь роман писать по-французски. Прошло еще полвека. И что же? Если Фонвизин, лет за сто тому назад, негодовал в своих письмах из Парижа: как смеют французы подносить русскому, в виде наивысшего комплимента, такую фразу: «Да вы на русского вовсе не похожи!» (mais, monsieur, vous n'avez pas l'air russe du tout), – то мы решаемся смело утверждать, что из русских путешественников за границей по крайней мере две трети, а из русских дипломатов девять десятых в наши дни за такое приветствие негодовать не станут, напротив, почтут его для себя совершенно лестным.
Очевидно, что направление, осмеянное Фонвизиным и Грибоедовым, изменилось теперь только по внешности, но зато проникло вовнутрь, от наружной формы в сознание, спустилось вглубь, почти на самое дно общества. Резкость противоречий сгладилась; чужое платье сидит уже не неуклюже, – по крайней мере неуклюжесть эта нам незаметна, и болезненной неловкости в чужом костюме уже не чувствуется. Можно быть теперь иностранцем, даже не зная ни одного иностранного языка или зная их плохо, выражая иностранные понятия языком русским, или же иностранные слова переписывая русскими буквами. Можно даже видеть в этом акт патриотизма, подобно тому, как изобретатель «русского шампанского» наверное гордится своим изобретением как патриотическим делом. К счастию для нас, это направление, спускаясь на более низкие ступени общественной лестницы, продолжает еще и теперь проявляться там в грубо комическом, карикатурном образе. Говорим «к счастию», потому что карикатура, раздражая глаз, помогает ему усмотреть истину, которую бы он иначе, пожалуй, и не заметил, – облегчает работу сознания… И разве не карикатура на всю нашу современность с ее «интеллигенцией» и «высоким уровнем культуры» хоть бы эта большая часть вывесок, украшающих нашу народную столицу? Если прославленные «русские портные из Парижа и Лондона», Синегубовы да Пахомовы, удалились в провинцию, то Москва продолжает щеголять вывесками не менее выразительными и прежде всего – таким множеством французских, что можно предположить: не целые ли две трети московского населения – иностранцы? Чуть не на каждом шагу красуются все эти Madame Olga, Madame Parascovie, а на одной из центральных московских улиц нам почти ежедневно приходится любоваться вывескою аршинными буквами: «Мадам Лузина». Есть еще другая, недавно прочитанная нами: «Мадам Аграфена». Это не только смешно; если кто думает, что это лишь пустяк, не заслуживающий упоминания, то, право, он ошибается…
«Мадам Лузина», – это ведь целый исторический продукт. Проезжая мимо нее, мы невольно каждый раз восстановляем в своем уме всю ее долгую, почти двухсотлетнюю генеалогию – от княгинь, высеченных кнутом при Петре в Правительствующем Сенате за отказ участвовать в «ассамблеях», от бритья бород, совершаемого самою августейшею рукою (из любви к искусству), от дубин, коими учили бояр «комплиментам», пока не выдубили из них столь известных екатерининских «петиметров»… В том-то и дело, что и «русское шампанское», и эта «мадам Лузина» с «мадам Аграфеной» – все это только наглядные, хотя бы и в карикатурной форме, еще живучие эмблемы нашего исторического просветительного процесса со времен Петра, в главных его чертах, и нашего современного духовного состояния с его наукой о «последних словах» без знания первых, с тем, одним словом, его умственным сумбуром, которым болеет русское общество от верхних своих ярусов до нижних и который так метко характеризуется Грибоедовскими словами: «смесь французского с нижегородским». Нечего смеяться над несчастной портнихой, пожелавшей облагородить, должно быть, согласно с общественным вкусом, свое вполне русское прозвание приставкой французского слова «мадам». Разве «русская столица Санкт-Питербурх» (по орфографии Петра) или хоть бы «Санкт-Петербург» не та же «мадам Лузина»? Чем же лучше ее или «мадам Аграфены» – русский земский чин «кирхшпильсфохт», введенный Преобразователем? Мы только прислушались, а ведь все эти наши чины, не только составленные из иностранных слов, как «коллежский асессор», но и переведенные с немецкого на русский язык, хотя и оставшиеся непонятными, например: «надворный советник», «действительный тайный» – ни тайно, ни явно не советующий «советник», – чем они умнее и приличнее вывески: «мадам Пузина»? А этот «шеф столь достойной нации», как смела назвать царя русского народа наша цивилизованная канцелярия в изготовленном для императора Александра I (и к сожалению им подписанном) рескрипте городу Санкт-Петербургу?