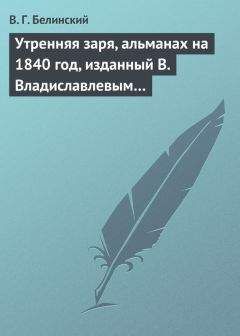Виссарион Григорьевич Белинский
Утренняя заря, альманах на 1843 год, изданный В. Владиславлевым
УТРЕННЯЯ ЗАРЯ, АЛЬМАНАХ НА 1843 ГОД, ИЗДАННЫЙ В. ВЛАДИСЛАВЛЕВЫМ. Пятый год. Санкт-Петербург. В тип. III-го отд. собств. е. и. в. канцелярии. В 16-ю д. л. 361 стр. (Цена 4 р. сер.).
«Утренняя заря» г. Владиславлева – давно уже прекрасная и желанная гостья в русской литературе[1]. Она всегда появляется на рубеже двух литературных годов, заставляя не поминать лихом старого и с веселою надеждою встречать новый. Содержание ее всегда представляет так много хорошего для легкого чтения. Это книга сколько светская, столько и изящная, по внутреннему и по внешнему своему достоинству. Появлением своим она всегда пробуждает от апатического сна нашу ленивую и неповоротливую литературу: ее читают и смотрят, ею восхищаются и любуются, ей все рады, ее все единодушно хвалят. На нынешний год «Утренняя заря» явилась прежнею красавицею, если еще не лучше прежнего. По крайней мере внутреннее ее достоинство на этот раз гораздо существеннее, чем было в прошедшем году.
Первое место, по важности содержания при достоинстве изложения, принадлежит в ряду статей новой «Утренней зари», без всякого сомнения, отрывку из записок покойного генерала Михаила Федоровича Орлова «Капитуляция Парижа». Очевидец и действователь в этом знаменитом событии, он описал его живо, увлекательно, драматически. Рассказ его прост, ясен, исполнен умных и дельных наблюдений. Особенно замечательно искусство, с каким автор умел придать легкую литературную форму статье такого серьезного, важного содержания.
Из собственно литературных статей перл альманаха составляет последнее стихотворение Лермонтова «Валерик»[2]. Это одно из замечательнейших произведений покойного поэта; оно отличается этою стальною прозаичностью выражения, которая составляет отличительный характер поэзии Лермонтова и которой причина заключалась в его мощной способности смотреть прямыми глазами на всякую истину, на всякое чувство, в его отвращении прикрашивать их. Не можем отказать себе в удовольствии выписать хоть начало этого довольно большого стихотворения:
Я к вам пишу, случайно! право,
Не знаю как и для чего;
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? – Ничего!
Что помню вас? Но, боже правый!
Вы это знаете давно.
И вам, конечно, все равно.
И знать вам также нету нужды,
Где я? что я? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды:
Да вряд ли есть родство души.
Страницы прошлого читая,
Их по порядку разбирая
Теперь остынувшим умом,
Разуверяюсь я во всем.
Смешно же сердцем лицемерить
Перед собою столько лет;
Добро б еще морочить свет!
Да и притом, что пользы верить
Тому, чего уж больше нет…
Безумно ждать любви заочной…
В наш век все чувства лишь на срок;
Но я вас помню – да и точно
Я вас никак забыть не мог:
Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;
Потом, в раскаяньи бесплодном
Влачил я цепь бесплодных лет
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.
С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум младых проказ,
Любовь, поэзию… но вас
Забыть мне было невозможно.
И к мысли этой я привык;
Мой крест несу я без роптанья:
И то и это – наказанье!..[3]
Не все ль одно: я жизнь постиг;
Судьбе, как турок иль татарин,
За все равно я благодарен…
У неба счастья не прошу[4]
И молча зло переношу.
Быть может, небеса Востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили. Притом,
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночью, днем,
Все, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простору нет воображенью…
И нет работы голове…
«Медведь», повесть графа Соллогуба, тоже принадлежит к лучшим и существеннейшим украшениям новой «Утренней зари». В этой повести рассказан очень простой и очень возможный случай, почти то, что называется анекдотом, по как рассказан! Так рассказывать умеет только граф Соллогуб, и, право, таких рассказчиков немного и в литературах, которые постарше и побогаче русской! Кроме превосходного, искусного изложения, в новой повести графа Соллогуба много души, а некоторые места ее дышат музыкою… Вот одно из таких:
С другой стороны, медведь (герой повести, за дикий и нелюдимый характер свой, был прозван медведем еще от своих школьных товарищей) был молод, и много дикой поэзии таилось в душе его. В особенности летом мечтания толпились роем над ним и мутили его воображение; душа его искала высших наслаждений, сердце просило любви, чувство одиночества давило его и становилось нестерпимо. Но тогда он убегал на берег моря, долго вглядывался в волны, и ему становилось легче, и странные мысли приходили ему в голову…
Он думал тогда, что любить женщину недостойно человека, который чувствует в себе бодрость и силу. Какая красота женская, несовершенная и земная, может сравниться, – думал он, глядя на море, – с этой вечной, неизменной красотой? Какой шепот любви, самый сладкий, может сравниться с этим вечным шепотом, с этими неясными стопами и жалобами, с этим замирающим говором, тайно наговаривающим на душу такие чудные думы? Какой порыв страсти, самой бурной, может сравниться с ненастною ночью, когда волны вздымаются до неба, утопляя звезды в своих брызгах, когда гром и молния бороздят бездонные пропасти и вся трепетная природа сливается в мрачную картину ужаса и гнева? А потом, когда все снова стихнет, когда черные тучи, испуганные солнцем, быстро убегут за небосклон и море разовьется зеркальной равниной, – какое глубокое чувство, какое душевное смирение может сравниться с этой глубиной, с этим смирением? Кто проник в недра чудной стихии? Кто понял ее жизнь, ее силу, душу?.. Долго просиживал он на берегу, вперив испытующий взор в прозрачные волны, и душа его наполнялась какой-то странной, необъятной любовью. И ему чудилось, что между им и морем было что-то похожее на таинственное сочувствие. В тихом говоре волн, плескавших у ног его, ему слышались неясные звуки, как бы неоконченные слова, как бы сладострастный отзыв, что любовь его не пропала даром, что если он не изменит ей, его вечно, вечно будет хранить невидимая сила, и эти журчащие слова, эти мерные звуки убаюкивали его, как колыбельная песня, и он засыпал на берегу, и сон его был тих и спокоен, как сон ребенка…
Мы сказали, что в этой повести рассказан простой случай, почти анекдот: это не значит, чтоб сюжет ее можно было передать в двух словах и чтоб она была наполнена большею частию отступлениями и рассуждениями. Напротив, в «Медведе» нет ни отступлений, ни рассуждений, длинных и лишних, но все рассказ, все развитие события, простота и немногосложность которого именно и требовала большого таланта, большого знания и такта действительности. Писаки обыкновенно берутся за удивительные и небывалые приключения; люди с талантом изображают то, что может быть и, следственно, что есть и бывает в обыкновенной, ежедневной жизни, но изображают это так, что оно, выходя из-под их пера, кажется чем-то необыкновенным, выше мелочных событий житейского быта. Особенно хорошо очеркнута в «Медведе» нравственная сторона так называемого большого света…
Одно только можно вменить в недостаток повести графа Соллогуба: его медведь совсем не из того круга людей, который автор называет «медвежьим». Этот круг, по собственному описанию автора, набит какими-то праздношатающимися пустозвонами, вечно пьющими и идущими; а медведь его – человек с душою и сердцем, хоть и убитый воспитанием. Напрасно также автор заставляет этих медведей читать плохие русские журналы, забывая, что такие медведи, как и львы большого света, ровно ничего не читают и что в плохих русских журналах бывают иногда прекрасные русские повести…
«Ударило двенадцать часов. Рим пылал хуже всякой печки»… Так начинается «Наденька», другая повесть в «Утренней заре». Встретив слово «Рим», мы в испуге поспешили посмотреть на имя, подписанное под повестью, – и книга вывалилась у нас из рук… Повесть г. Кукольника!.. Она начинается с Рима и в Риме, стало быть, это повесть итальянская, а нам по обязанности, должно прочесть ее… Что делать! будем читать! Однако ж, к счастию, повесть оказалась русскою: Рим в ней играет побочную роль; главное ее действие и развязка в одном из захолустьев России. Повесть незатейливая, но занимательно и мило рассказанная. Жаль только, что в ней часто кланяются в ноги…
«Пруд» г. Гребенки – третий рассказ в новой «Утренней заре», столь богатой хорошими статьями. Это тоже прекрасный рассказ о многом, что бывает на белом свете. Кроме занимательности, рассказ не лишен и юмору, что составляет большое достоинство в статьях такого рода.