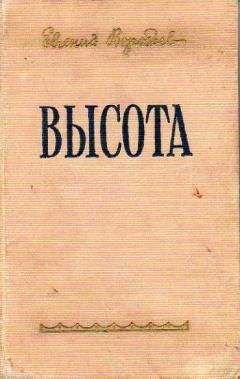С. Н. Булгаков
Природа в философии Вл. Соловьева
М‹илостивые› г‹осудари›!
Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим. По ним мы ориентируемся в пути, они всегда остаются перед нашими глазами. Временем так же испытывается подлинное величие, как расстоянием – высота гор. Мы отошли всего на 10 лет со дня кончины Соловьева, и как изменилась уже историческая перспектива, как вырос он пред нашими глазами, какое место он начинает занимать в наших душах. Взамен высокомерно-пренебрежительного незамечания – из Назарета может ли что произойти! – полного почти игнорирования его философского творчества мы замечаем жадное всасывание, органическое усвоение основных начал его философии. Я не преувеличиваю, и посейчас все это остается еще слишком слабо и недостаточно. Но я помню хорошо, что было 10 лет тому назад, когда философии Соловьева просто почти не знали и интересовались только его публицистикой. Теперь уже и философское творчество Соловьева постепенно становится неотъемлемой принадлежностью русской культуры и русского самосознания, как поэзия Пушкина и Лермонтова, как романы Достоевского и Толстого, как творчество Тургенева и Чехова. Растет число лиц, сознающих, насколько Соловьев нужен для современности, а также и тех, кому он существенно помог в критические моменты духовного роста, кто чтит его как одного из своих учителей и утешителей. Благодаря многомотивности его философии имя Соловьева объединяет людей с разным духовным прошлым и настоящим – философов и поэтов, социологов и естествоведов, марксистов и декадентов, священников и мирян, правых и левых. Каждый находит свою к нему дорогу, получает от него ответы на свои вопросы, выделяет свой излюбленный мотив из полнозвучного аккорда. Мне тоже хочется сегодня выделить один из жизненных мотивов философии Соловьева, именно поставить пред вашим духовным взором лик природы, как видел его Вл. Соловьев.
Два кошмара угнетают современное сознание в философии природы: механический материализм и идеалистический субъективизм. Первый превращает мир в бездушную машину, в мертвый механизм, второй – в гносеологическую схему, в голую возможность познания, лишенную собственной жизни. Оба эти направления мысли, философия чистого объекта и философия чистого субъекта, материализм и субъективный идеализм, практически объединяются, однако, в механическом мировоззрении: для обоих нет живой природы, а есть лишь механизм, проецируемый или в объекте, или в субъекте. Между этими двумя полюсами и мечется смущенный дух. Материализм есть, в известных пределах, естественная и неустранимая форма человеческого самочувствия в его наивной непосредственности, и этого практического материализма не в состоянии уничтожить никакой идеалистический гипноз. Человек чувствует себя природным существом, чрез свое тело связанным со всем природным миром. Эта связь есть слишком элементарный и несомненный факт жизни, чтобы можно было надолго о нем забывать, и разные материалистические теории – философский материализм, экономический материализм, новейший «монизм» – представляют собою лишь попытки философски посчитаться с этой непосредственной данностью, ее истолковать. Этот естественный уклон мысли в сторону материализма, как бы ни были неудовлетворительны материалистические теории, не может быть побежден просто идеалистическим отрицанием материи. Легко диалектически разрешать материю в наше представление или в иллюзию, как бы в сон, лишая ее всякой теплоты и красочности, но эта идеалистическая критика, сильная в тиши замкнутого кабинета, не обладает, однако, жизненной убедительностью и безмолствует пред лицом голода, болезни, рождения, смерти. Кроме того, это идеалистическое пренебрежение к материи должно считаться и с ее способностью к просветлению в созданиях искусства, в красоте природы, в возможном благородстве и красоте человеческого тела. Проникновенно говорит об этом У. Джемс: «Для человека, когда-либо смотревшего на лицо своего мертвого ребенка или отца, один тот факт, что материя сумела на время принять эту драгоценную форму, должен был бы сделать материю навсегда священной. Каков бы ни был принцип жизни – материальный ли он или нематериальный, – но материя во всяком случае помогает ему и подчиняется всем целям жизни. Эта дорогая нам телесная оболочка находилась в числе возможных для материи воплощений»[1]. Отсюда понятно, что сухой, механический материализм у душ поэтических и нежных принимает форму религиозно окрашенного гилозоизма, последнее время с налетом гетевской пантеистической мистики. Тем не менее последовательный материализм неизбежно разлагается от внутренних противоречий. Сознание и познание, волю и действие, вообще всю жизнь духа с его запросами, идеалами, с его свободой не в силах объяснить материализм.
Однако тот, для кого материализм становится хотя и пережитым, но еще внутренне не превзойденным мировоззрением, кто, расставшись с ним, все же сохраняет в себе неизгладимую память об этом интимном переживании, найдет ли он успокоение в господствующих идеалистических учениях, чуждых всякого материализма, но именно поэтому бессильных его окончательно преодолеть? Ибо отвести глаза от предмета не значит еще его устранить и рассматривать мир из окна кабинета, откуда он представляется не живым, а лишь нарисованным, не значит еще возвыситься над ним. Идеализм, как он есть в господствующих течениях кантианства, фихтеанства и неокантианства, спасает духовную личность от материализма, но ценою обескровления мира, а вместе с ним и человека. Последний превращается в гомункула, замкнутого в реторте и наглухо отделенного от других людей и от мира. Этому гомункулу соответствует и «мир в карманном формате», как метко и зло выразился Шеллинг по адресу Фихте по поводу этого идеалистического мира. Возможно ли мировоззрение, стоя на почве которого можно было бы быть и материалистом, т. е. мыслить себя в реальном единстве с природою и человеческим родом, но вместе с тем утверждать и самобытность человеческого духа с его запросами, с его постулатами о сверхприродном, божественном бытии, освещающем и осмысливающем собою природную жизнь? Таков вопрос, который глубоко затаен в душе у многих и многих людей нашего времени. Именно этой потребности современного духа и идет навстречу учение Вл. Соловьева о природе, к которому он сам применил однажды характерное название «религиозного материализма» и которое, в более строгом философском стиле, можно определить как конкретный натурфилософский спиритуализм или панпсихизм. Что же такое представляет собою этот религиозный материализм, не есть ли это явно противоречивое соединение несоединимых понятий? Напротив, он притязает быть их синтетическим единством. Религиозный материализм, вместе с материализмом, признает субстанциональность материи, метафизическую реальность природы. Он считает человека не духом, заключенным в футляр материи, но духовно-телесным, природным существом, метафизические судьбы которого неразрывно связаны с природным миром. Но в то же время, в противоположность материализму, он видит в материи не один только мертвый механизм атомов или сил с эпифеноменом жизни. В противоположность этой метафизике всеобщей смерти, абсолютного механизма он отстаивает первичность и всеобщность жизни, развивающейся в целемеханизме природы, и для него различие между живым и неживым остается не качественным, но количественным. «Последовательная мысль должна выбирать между двумя положениями: или ни в чем, даже в человеке, даже в нас самих, нет одушевленной жизни, или она есть во всякой природе, различаясь только по степеням и формам. Ибо нет никакой возможности, оставаясь на научной почве, отделить человека в этом отношении от остального мира… весь видимый мир… есть продолжающееся развитие или рост единого живого существа»[2]:
И под личиной вещества бесстрастной
Везде огонь божественный горит…
Но кто делает подобное утверждение, будь ли то Шеллинг или Вл. Соловьев, не имеет ли против себя все научное естествознание? Не изучает ли оно природу только как механизм и не увенчивается ли это изучение колоссальным успехом? Однако что же дает право естествознанию его условное, методологическое отношение к природе, его рабочие гипотезы, которых притом столько же, сколько отдельных наук, превращать в общее учение о природе, утверждать, что природа в целом выглядит так же, как видит ее физика, химия, кристаллография, механика, что природа есть только механизм, а не целемеханизм, т. е. универсальный механизм? Не значит ли это смешивать гербарий и музей с храмом природы или лежащий на анатомическом столе труп приравнивать живому человеку? Не совершается ли при этом бессознательное природоубийство? Смотреть на природу непосредственно, наивно открытыми, детскими глазами теперь составляет двусмысленную привилегию поэтов. Беклину можно писать своих наяд и сказочных сатиров, и сами фанатики механистической философии не прочь на них полюбоваться в виде отдыха. Но всерьез принимать это оживотворение природы предоставляется только поэтам да детям. Что же, замечает по этому поводу Соловьев, «может быть, существуют две истины: одна для поэзии, другая для науки? Но наука тут не при чем; она не отвечает за ложные выводы, которые делаются из ее достоверных данных в силу одностороннего направления мысли, возобладавшего в известную эпоху. Наука никогда не доказывала – да, по существу дела, и не может доказывать, – что мир есть только механизм, что природа есть только мертвое существо. Различные науки исследуют природу по частям и находят между этими частями механическую связь; но такой естественной науки, которая исследовала бы вселенную в ее единстве и целости, вовсе не существует, а логика, обязательная и для наук, не позволяет от анализа частей и их внешней частичной связи делать окончательное заключение о всеобщем характере или смысле целого. Ведь и в теле живого человека все его части и частицы связаны между собой механически, – это не мешает ему, однако, быть одушевленным существом… Точно так же и механизм всей природы есть только слаженная совокупность для проявления и развития всемирной жизни». Ведь «и для микроскопических глаз мухи вовсе не существует целое гармоническое очертание человека или человеческого лица с его выражением, да и для нашего собственного глаза самое прекрасное и одушевленное лицо превратилось бы при микроскопическом исследовании в бесформенную массу грубых тканей и клеток, механически нагроможденных без всякой законченности и единства»[3]. Но этот лик природы, невидимый в микроскоп, открывается просветленному созерцанию святого и творческой интуиции мыслителя и поэта.