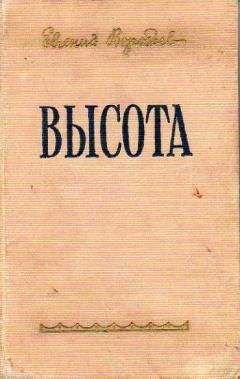В рассматриваемом учении Соловьева мы видим переливы и отражения многих предшествовавших философских учений, которые он объединяет в широком синтетическом охвате: здесь чувствуются Платон и Плотин, Аристотель и христианское богословие, Лейбниц и Кант, Шопенгауэр и Шеллинг. Можно с полным убеждением сказать вместе с кн. С. Н. Трубецким, что едва ли можно назвать «в новейшей истории мысли синтез более широкий, чем тот, который был задуман им с такой глубиной, так ясно, стройно и смело»[16]. И если теперь иногда раздаются голоса, которые отрицают философскую оригинальность Соловьева на том основании, что его творчество находится в ясной и несомненной связи с историей мысли, продолжает мировую философскую традицию, то этим только обнаруживается непонимание задачи и пределов индивидуального творчества. Ближе всего Соловьев в рассматриваемом учении стоит, бесспорно, к Шеллингу второго и третьего периода, в отдельных пунктах соответственные учения Шеллинга глубже и гениальнее, но даже поставленный рядом с этим удивительным мыслителем, наш философ не теряет своей индивидуальности, а, кроме того, отличается от него более поздним историческим возрастом и, следовательно, большей широтой синтеза. Природа есть живое существо, природа есть сущее, природа есть абсолютное. Однако в отличие от пантеизма, хотя и постигающего жизнь природы, но отождествляющего ее с Божеством, у Соловьева природа есть другое Бога, Его творение и образ, второе абсолютное, становящееся им в процессе, во времени. В учении Соловьева проводится ясная грань между Творцом и тварью, но вместе с тем устанавливается и тесная связь. Вместе с Бёме, Баадером и Шеллингом Соловьев учит о природе в Боге, имеющей потому вневременное и предвечное существование. Божеству принадлежит положительное всеединство, потенциальная множественность идей или существ, связываемая единящим началом Логоса, второй ипостаси. Этому произведенному единству Соловьев усваивает библейское название Софии: «София есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом божественного единства. Осуществляющий в себе или носящий это единство, Христос как целый божественный организм – универсальный и индивидуальный вместе – есть и Логос, и София» (III, 106). Это «все», которое содержится в божественном единстве и первоначально имеет свое бытие только в нем, само по себе есть лишь потенция бытия, первая материя, или не-сущее (μή ον).
«Божество ‹…› эту потенцию бытия вечно осуществляет, всегда наполняет беспредельность существования таким же беспредельным, абсолютным содержанием, всегда утоляет им бесконечную жажду бытия, всему сущему свойственную» (III, 124–125). Но в каждой из частных сущностей, входящей в это всеединство и составляющей собой не все, а лишь частное, одно из многого, и не могущей быть непосредственно всем, «абсолютная полнота бытия ‹…› открывается как бесконечное стремление, как неутолимая жажда бытия, как темный, вечно ищущий света огонь жизни» (125), как беспредельное (ἀττειρον), «…это беспредельное, которое в Божестве есть только возможность, никогда не допускаемая до действительности (как всегда удовлетворяемое, или от века удовлетворенное, стремление), здесь – в частных существах – получает значение коренной стихии их бытия, есть центр и основа всей тварной жизни (μητὴς τῆς σωῆς)» (125). В «распаленном колесе жизни» эта беспредельная слепая жажда, неугасающая первоволя, неумиренный, хотя и скованный хаос чувствуется как стихия ужасного, ослепляющая наше ночное сознание.
На мир таинственных духов,
Над этой бездной безымянной
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
Но когда ночь отбрасывает этот покров, то
…Бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами:
Вот отчего нам ночь страшна.
Соловьев мастерски сумел оценить и философски истолковать проникнутую этой стихией поэзию Тютчева, которой посвятил глубокомысленный этюд. И с особенным проникновением останавливается он над вещими стихами Тютчева о темном корне мирового бытия, о первобытном хаосе, на этом ясновидении философа-поэта.
О чем ты воешь, ветр ночной,
О чем ты сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой
То глухожалобный, то шумный?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки.
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться…
О, бурь уснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!..
Свет освещает тьму, но в то же время и предполагает ее, и победа над хаосом являет его положительное преодоление, вот почему корни бытия глубоко погружаются в темные недра.
Свет из тьмы: над черной глыбой
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно
Не впивался погруженный
Темный корень их.
Положительное всеединство есть организм живых идей или, как можно выразиться с Лейбницем, монад. Но если у Лейбница монады «не имеют окон» друг для друга и общаются лишь на основе предустановленной гармонии, то у Соловьева они соединены узами любви[17], представляющей собою основное космическое начало. В мире душ, т. е. в нашем природном мире, центральное место принадлежит человечеству. «То, второе, произведенное единство, которому мы дали мистическое имя Софии, есть начало человечества, есть идеальный, или нормальный, человек. И Христос, в этом единстве причастный человеческому началу, есть человек или, по выражению Священного Писания, второй Адам» (111). Хотя человек появляется в природе на определенной ступени ее развития и ведет временное и эмпирически изменчивое существование, но как умопостигаемая сущность он предвечно есть, и допущение «„бесконечного существования“ после смерти никак не вяжется с ничтожеством до рождения» (117). И, наоборот, рассматривать человека исключительно как результат эволюции и трансформации, т. е. в конце концов сводить его происхождение к абсолютной случайности, конечно, противоречило бы основам метафизики Соловьева. Но в то же время идея эволюции, последовательного развития во времени, составляет необходимую часть системы Соловьева, однако эту эволюцию он понимает не как дело абсолютного случая или творчество из ничего, но лишь как выявление сил, заложенных в мироздании, поэтому и сама эволюция в основах и задачах своих есть процесс телеологичекий. Отмечу кстати, что в этом пункте чрезвычайно приближается к Соловьеву Ch. Renouvier[18] в своем интересном трактате «Le personalisme», 1903, излагающем учение о мире как творении Божием и о его эволюции как о процессе, возвращающем лишь вложенные в мир семена.
Человек в его вечном и доприродном состоянии рассматривается Соловьевым не как индивид, или особь, и не как агрегат их, или общество, но как «цельный, универсальный и индивидуальный организм» (116). В человеке находит сознание и единство все, и в этом смысле человечество есть мировая душа, «она занимает посредствующее место между множественностью живых существ, составляющих реальное содержание ее жизни, и безусловным единством Божества, представляющим идеальное начало и норму жизни» (129). «Заключая в себе и божественное начало, и тварное бытие, она не определяется исключительно ни тем ни другим и, следовательно, пребывает свободною…» (ibid.). Но если в божественном мире все находится в единстве и гармонии, то откуда же зло, дисгармония, муки этого мира? Откуда в нем временность или процесс, т. е. разорванность, частичность, дискурсивность, наконец, смерть? Не станет ли существование этого мира еще более загадочным и непонятным, если принять учение о природе в Боге, о вечном существовании человечества как мировой души? Соловьев отвечает на эти вопросы так: «Тот мир, который, по слову апостола, весь во зле лежит, не есть какой-нибудь безусловно отдельный от мира божественного, состоящий из своих особенных существенных элементов, а это есть только другое, недолжное взаимоотношение тех же самых элементов, которые образуют и бытие мира божественного. Недолжная действительность природного мира есть разрозненное и враждебное друг к другу положение тех же самых существ, которые в своем нормальном отношении, именно в своем внутреннем единстве и согласии входят в состав мира божественного… природа в своем противоположении с Божеством может быть только другим положением или перестановкою известных существенных элементов, пребывающих субстанциально в мире божественном» (122). «Один из них представляет единство всех сущих, или такое их положение, в котором каждый находит себя во всех и все в каждом; другой же, напротив, представляет такое положение сущих, в котором каждый в себе или в своей воле утверждает себя вне других и против других (что есть зло) и тем самым претерпевает против воли своей внешнюю действительность других (что есть страдание)» (122). Происхождение зла, составляющего общую болезнь мира, необъяснимо причинами физическими, оно может найти только метафизическое объяснение в премирном отпадении мировой души от Бога и утрате ею вследствие этого способности быть единящим центром творения. «Мировая душа содержит в единстве все элементы мира, лишь поскольку она сама подчиняется воспринимаемому ею божественному началу, поскольку она имеет это божественное начало единственным предметом своей жизненной воли, безусловной целью и средоточием своего бытия…» (130). Но, как свободная, мировая душа может изменить центр своего стремления. «Обладая всем, она может хотеть обладать им иначе, чем обладает, т. е. может захотеть обладать им от себя как Бог, может стремиться, чтобы к полноте бытия, которая ей принадлежит, присоединилась и абсолютная самобытность в обладании этою полнотою, – что ей не принадлежит. В силу этого мировая душа может отделить относительный центр своей жизни от абсолютного центра жизни Божественной, может утверждаться вне Бога» (131). Но, «останавливая свою волю на самой себе, сосредоточиваясь в себе, она отнимает себя у всего, сама становится лишь одним из многих. Единство мироздания распадается тогда на множество отдельных элементов, всемирный механизм обращается в механическую совокупность атомов… частные элементы всемирного организма теряют в ней свою общую связь и, предоставленные самим себе, обрекаются на разрозненное эгоистическое существование, корень которого есть зло, а плод – страдание. Таким образом, вся тварь подвергается суете и рабству тления не добровольно, а по воле подвергнувшего ее, т. е. мировой души как единого свободного начала природной жизни» (131). «Отпавший от божественного единства природный мир является как хаос разрозненных элементов, чуждых друг другу, непроницаемых друг для друга, выражается в реальном пространстве. ‹…› Вытекающая из механического взаимодействия элементов сложная система внешних сил, толчков и движений образует мир вещества», и «постепенная реализация идеального всеединства составляет смысл и цель мирового процесса. Как под божественным порядком все вечно есть абсолютный организм, так по закону природного бытия все постепенно становится таким организмом во времени» (132–133). Душа мира, утеряв первоначальную единящую силу, становится лишь потенцией и смутным стремлением к такому единению. Действующей силой единения становится уже само божественное начало. «Здесь божественное начало стремится к тому же, к чему и мировая душа, – к воплощению божественной идеи, или к обожествлению (theosis) всего существующего чрез введение его в форму абсолютного организма» (134). Но это воссоединение может совершиться только на основе свободы, а следовательно, продолжительным и мучительным историческим процессом. Сначала устанавливается внешнее единство – в законе тяготения, затем последовательными ступенями развитие мира достигает жизни органической и, наконец, появления человека. «В человеке мировая душа впервые внутренне соединяется с божественным Логосом в сознании как чистой форме всеединства» (138). Поэтому «человек является естественным посредником между Богом и материальным бытием, проводником всеединящего божественного начала в стихийную множественность – устроителем и организатором вселенной» (138). Как и мировая душа, он имеет свободу выбора – он волен утверждать себя отдельно от Бога и повторяет в себе изначальное грехопадение мировой души, становится благодаря ему вместо центра снова периферией[19]. Единство его сознания превращается в пустую форму, ждущую своего наполнения. «Это внутреннее усвоение сознанием абсолютного содержания (по необходимости постепенное) образует новый процесс, субъектом которого является мировая душа в форме действительного, подчиненного мировому порядку человечества» (140). Здесь понятие о мировой душе приближается к понятию кантовского трансцендентального субъекта, установляющего своими категориями объективность познания. (Впрочем, это отождествление его с мировой душой сделано было лишь кн. С. Н. Трубецким, но вполне в духе Соловьева.) Начинается исторический процесс. Божественное начало действует в человеческой истории как подавляющее темные силы, просветляющее и, наконец, перерождающее. Для этого «божественный Логос рождается как действительный индивидуальный человек» (147). Иисус Христос, второй Адам, – не только индивидуальное, но универсальное существо, «обнимающее собой все возрожденное, духовное человечество» (151). «Человечество, воссоединенное со своим божественным началом чрез посредство Иисуса Христа, есть Церковь, и если в вечном первобытном мире идеальное человечество есть тело божественного Логоса, то в природном, происшедшем мире Церковь является как тело того же Логоса, но уже воплощенного, т. е. исторически обособленного в Богочеловеческой личности Иисуса Христа» (159). Но достижение этой полноты в человечестве «обусловлено тем же, чем и в Богочеловеческой личности, т. е. самоотвержением человеческой воли и свободным подчинением ее Божеству» (160). Пределом этого процесса является восстановление изначального всеединства, брачная вечеря Агнца и уготовавшей себя Невесты, новая Кана Галилейская. Это необходимо связано с преображением твари и с всеобщим воскресением, предваряемым воскресением одного, Первенца из мертвых. Это воскресение Соловьев рассматривает не только как постулат веры, но и как заключительное звено мировой эволюции, как внутренне необходимое ее завершение (он колебался в разные времена жизни относительно степени участия в нем самого человечества, мысля его то как воскрешение силами объединившегося, овладевшего природой человечества – под влиянием Федорова, то как творческий акт Божией воли). Но он не мирился с тем представлением, которое глубоко залегло в современных теориях земного прогресса, с забвением отцов со стороны счастливых потомков, унаследовавших блага прогресса. «Каким образом, – спрашивает он в „Смысле любви“, – окончательное и высшее состояние может быть основано на несправедливости, неблагодарности и забвении? Человек, достигший высшего совершенства, не может принять такого недостойного дара; если он не в состоянии вырвать у смерти всю ее добычу, он лучше откажется от бессмертия». «Наше личное дело, поскольку оно истинно, есть общее дело всего мира, – реализация и индивидуализация всеединой идеи и одухотворение материи» (VI, 410–411). Бессилен подвиг Пигмалиона, изваявшего из мрамора божественное тело, и не спасет Эвридики от мрака Аида победа Алкида, спасает только Орфей, в образе которого в катакомбах изображается Христос: