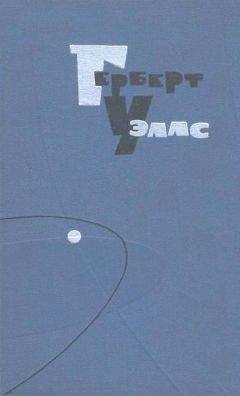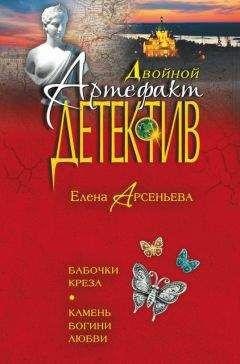Искусство издавна навлекало на себя нападки и ненависть моралистов, этих вампиров, которые мертвят жизнь холодом своего прикосновения и силятся заковать ее бесконечность в тесные рамки и клеточки своих рассудочных, а не разумных определений. Но из всех поэтов Гёте наиболее возбуждал их ожесточение. Гений и безнравственность – его неотъемлемые качества в их глазах. В Менделе эта моральная точка зрения на искусство нашла полнейшего своего выразителя и представителя. Причина очевидна: Гёте был дух во всем живший и все в себе ощущавший своим поэтическим ясновидением, следовательно, неспособный предаться никакой односторонности, ни пристать ни к какому исключительному учению, системе, партии. Он многосторонен, как природа, которой так страстно сочувствовал, которую так горячо любил и которую так глубоко понимал он. В самом деле, посмотрите, как природа противоречива, а следовательно, и безнравственна, по воззрению резонеров: у полюсов она дышит хладом и смертию зимы, а под экватором сожигает изнурительною теплотою; на севере она скупа на свои дары и заставляет человека все брать трудом, кровавым потом и вечною борьбой с собою, а на юге щедра дарами, но богата и смертоносными заразами, ядовитыми гадами и свирепыми зверями; в средине Африки она разметнулась безбрежною степью – целым океаном песка, гибельного для путешественников, а в Голландии явилась топким болотом… Следовательно, в одном месте она говорит одно, а в другом утверждает совсем противное; какая, право, безнравственная? Таков и Гёте – ее верное зеркало. Во дни своей кипучей юности, обвеянный духом художественной древности и обаянный роскошью природы и жизни поэтический Италии, он писал «Римские элегии», этот дивный апотеоз древней Жизни и древнего искусства, и в то же время воскресил в своем «Гёце» жизнь рыцарской Германий, Свёл с ума всю Европу повестию о «Страданиях Вертера» и создал в «Вильгельме Мейстере» апотеоз человека, который ничего полезного не делает на белом свете и живет только для того, чтобы наслаждаться жизнию и искусством, любить, страдать и мыслить. Потом, в лета более зрелые, он в «Прометее» воспроизвел художнически момент восстания сознающего духа против непосредственности на веру признанных положений и авторитетов, а в «Фаусте» – жизнь субъективного духа, стремящегося к примирению с разумною действительностию путем сомнения, страданий, борьбы, отрицаний, падения и восстания, но подле него поместил Маргариту, идеал женственной любви и преданности, покорную и безропотную жертву страдания, смерть которой была для него спасением и искуплением ее вины, в христианском значении этого слова…{13} Уловить Гёте в какое-нибудь коротенькое определение трудновато и не для Менцеля, Мендель и осердился на него и назвал его чем-то вроде безнравственной безличности. Нашлось много людей, которые, в простоте ума и сердца, воскликнули:
Ай, моська! Знать она сильна,
Коль лает на слона!
и променяли слона на моську…
Чтобы унизить Гёте, Мендель противопоставляет ему Шиллера не как художника, а как человека «отличнейшего поведения». Не поздоровится от этаких похвал!.. Чтобы сделать Гёте образцом безнравственности, Мендель признал в Шиллере образец нравственности. И Шиллер в самом деле был дух столь же великий, сколько и нравственный: величие и нравственность нераздельны, как теплота и свет в огне. Кто грешил против нравственности, стремясь к нравственности, – тот нравственнее того, который родился и умер нравственным; точно так же, кто заблуждался в истине, стремясь к истине, больше любит истину, нежели тот, который родился и умер правым против нее. Как благородные порывы пламенной, неистощимой любви к человечеству, первые произведения Шиллера, каковы «Разбойники», «Коварство и любовь», нравственны; но в отношении к безусловной истине и высшей нравственности они решительно безнравственны. В них он хотел осуществить вечные истины, – и осуществил свои личные и ограниченные убеждения, от которых потом сам отказался. Так как он в них задал себе задачу и назначил цель вне искусства, то из них и вышли поэтические недоноски и уроды, явления, совершенно ничтожные в области искусства, хотя и великие в сфере феноменологии духа. Истинно художественное произведение возвышает и расширяет дух человека до созерцания бесконечного, примиряет его с действительностью, а не восстанавляет против нее, – и укрепляет его на великодушную борьбу с невзгодами и бурями жизни. Искусство достигает этого тогда только, когда в частных явлениях показывает общее и разумно необходимое и когда представляет их в субъективной полноте, целости и оконченности, замкнутыми в самих себе. Если в трагедии гибель и смерть ее героев явилась как внутренняя необходимость из их Характеров и действий, как разрешение ими же произведенной дисгармонии в гармонической сфере духа, для осуществления нравственного закона, – мы примиряемся с нею и умиленною душою предаемся тихой и глубокой думе о поразительном уроке; но когда гибель и смерть героев трагедии является вследствие страсти поэта к ужасным и поражающим эффектам, как у какого-нибудь Гюго, или по другой, внешней, случайной, а следовательно, и бессмысленной причине, – это возбуждает в нас отвращение и омерзение, как зрелище казни или пытки. Так точно и страдания субъективного духа могут быть предметом искусства, а следовательно, и не оскорблять нравственности, если они изображены объективно, просветлены мыслию, свидетельствующею о разумной необходимости их явления. Но когда они суть вопли самого поэта, то и не могут быть художественны, ибо кто вопит от страдания, тот не выше своего страдания, – следовательно, и не может видеть его разумной необходимости, но видит в нем случайность, а всякая случайность оскорбляет дух и приводит его в раздор с самим собою, следовательно, и не может быть предметом искусства. Гёте в своем «Вертере», по собственному признанию, выразил моментальное состояние своего духа, тяжко страдавшего; «Вертером», по собственному же его признанию, он и вышел из своего мучительного состояния. И вот истинная причина, почему чтение «Вертера» производит на душу то же тяжкое, дисгармоническое впечатление, не услаждая, а только терзая ее; вот почему «Вертер» и представляется чем-то неполным, как бы неоконченным. Это не художественное произведение, а режущий, скрипучий диссонанс духа. Поэтому, если он не есть безнравственное произведение, то и нисколько не есть нравственное произведение. Гёте изменил в нем самому себе, явился неверным своей художнической натуре. Но кто же поставит ему в вину то, что он на минуту не понял самого себя и из художника явился человеком?.. И неужели один неудачный опыт может затмить такую богатую и обширную художническую деятельность?..
Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне сформировавшимся; но вся жизнь его есть не что иное, как беспрерывно движущееся развитие, беспрестанное формирование. Истина не дается ему вдруг: чтобы достичь ее, он будет сомневаться, впадать в ложь и противоречие, – страдать и падать. Дорого да мило, дешево да гнило! говорит мудрая русская пословица. Чем глубже натура человека, тем глубже и его падение и его заблуждение, его противоречия и отрицания, тем резче его переходы от одного убеждения к другому. Но есть люди, как бы родящиеся с готовыми понятиями, люди, которые в старости думают и понимают точно так же, как думали и понимали в детстве. Это натуры бедные и жалкие, равнодушные к истине и. чуждые всякого духовного движения, умы мелкие и ограниченные. Вот от этих-то «духовно малолетних» вы всегда и слышите забавно самолюбивое возражение: «Как, не вы ли тогда-то думали совершенно иначе, а теперь говорите, совсем другое? – стало быть, вы ошибаетесь». К таким-то натурам принадлежит и Менцель: он родился совершенно готовым, и в одном месте своей книги с препотешною гордостию ставит себе в великую заслугу, что никогда не изменял своих убеждений. Для поэта другой ход в движении истины, чем для людей обыкновенных: без борьбы и противоречий, руководимый полнотою своей ясновидящей натуры, переходит он с летами от низших явлений жизни к высшим, от «Руслана и Людмилы» доходит до «Бориса Годунова» или «Каменного гостя». Мендель этого не понимает, – и, посмотрите, как растолковано это дивно поэтическое признание великого художника:
Die Feinde, sie bedrohen dich,
Das mehrt von Tag zu Tage sich,
Wie dir doch gar nicht graut.
Das eeh ich alles unbewegt,
Sie zerren an der Schlangenhaut
Die jüngst ich abgelebt;
Und ist die nächste reif genug,
Abstreif'ich die sogleich
Und wandle neu belebt und jung
Im frischen Götterreich.[4]
Менцель это объясняет тем, что для Гёте не было ничего святого и заветного, что он всем забавлялся… Угадал!..
Менцель, впрочем, не до конца прогневался на Гёте; он не отнимает у него огромного таланта? – внешней поэтической формы без всякого содержания… О, почтенный немецкий филистер! как пристала бы к нему мандаринская шапка с тремя желтенькими шариками, при его собственных ушах?.. Чтоб быть критиком, надо родиться критиком, надо получить от природы обширное и глубокое созерцание, или внутреннее ясновидение, всего, что составляет содержание искусства; надо получить инстинкт и такт для понимания изящного. Мы не можем понимать и знать ничего такого, что не лежит, как возможность, в сокровенных тайниках нашего духа. Наука развивает только данное нам природою, и вне себя мы только узнаем находящееся в нас. Несколько друзей пошло в картинную галлерею, и все остановились перед «Мадонною» Рафаэля, как вдруг один вскричал с восхищением: «Славная рама! я думаю, рублей пятьсот стоит!» Растолкуйте же ему, что как бы ни хороша была эта рама, хотя бы она стоила миллионов, хотя б была сделана из цельного алмаза – и тогда была бы грошевою вещию в сравнении с картиною, которая в нее вставлена… Растолкуйте Менделю, или менцелям, что как в природе, так и в искусстве нет прекрасных форм без прекрасного содержания, то есть мысли, которая есть дух жизни, ставший в них видимою, очевидною действительностию, и что ей-то и одолжены эти прекрасные формы и своею обаятельною красотою, и своею вечно юною жизнию, и своим неотразимым и сладостным могуществом над душою людей!..